
К 35-летию кончины профессора Б.В. Зейгарник.
С Блюмой Вульфовной Зейгарник я встретился в 1966 г., будучи тогда студентом четвертого курса отделения психологии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В том же году отделение было преобразовано в факультет психологии. Одновременно такое же преобразование произошло и в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) университете. Так появились в нашей стране первые два факультета психологии. Это был период, который сейчас, оглядываясь назад, можно, несмотря на все ограничения советской власти, назвать уникальным (золотым или серебряным — решайте сами) для развития отечественной психологии. Отделение, ставшее факультетом, было совсем небольшим: мой курс (прием 1963 г.) — это 25 человек на дневном и примерно 40 на вечернем отделениях. Нам преподавали, вели семинары, с нами постоянно общались звезды отечественной и мировой психологии, чего мы, будучи молодыми и «зелеными», конечно, не особо тогда понимали. Для нас это казалось нормой — а какие еще должны быть профессора Московского университета?
Несколько десятилетий спустя мой младший сокурсник (ныне академик РАО) Владимир Собкин был приглашен в Америку. Его встретил в аэропорту и повез на машине коллега из тамошнего университета. По дороге, а она проходила по скоростной трассе, коллега дежурно поинтересовался — кто были непосредственными учителями психологии у Собкина. Последний стал буднично перечислять: Алексей Николаевич Леонтьев, Александр Романович Лурия, Петр Яковлевич Гальперин, Блюма Вульфовна Зейгарник, Александр Владимирович Запорожец, Даниил Борисович Эльконин... Американский коллега затормозил, съехал со скоростной трассы на обочину, остановился и выключил мотор. Помолчав некоторое время, он произнес: «Такого не смог бы позволить ни один американский университет». Он имел в виду, что ни у какого здесь учебного учреждения не хватило бы средств и возможностей, чтобы собрать одновременно на одном факультете такого уровня и масштаба специалистов.
Итак, я — студент IV курса — подошел после лекции к Б.В. Зейгарник и сказал, что хочу писать у нее курсовую работу по патопсихологии. Она назначила встречу, предложив приехать в лабораторию экспериментальной патопсихологии Института психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР, в которой, собственно, и родилась отечественная патопсихология как направление науки.
Лаборатория размещалась на территории психоневрологической больницы №4 имени П.Б. Ганнушкина в отдельно стоящем небольшом одноэтажном доме, который в институтском и больничном обиходе называли «профессорским». Помещение лаборатории имело отдельный вход и состояло из двух смежных комнат. В первой исследовали больных две молодые женщины: Валентина Васильевна Николаева и Татьяна Ивановна Тепеницына, ставшие впоследствии известными специалистами в области патопсихологии. Во второй (за проходной) комнате размещались Блюма Вульфовна и ее ближайшая сотрудница, соратница по патопсихологии и спутница по жизни — Сусанна Яковлевна Рубинштейн. Я прошел в эту комнату, где Блюма Вульфовна сказала, что сейчас приведут больного, и я могу поприсутствовать на его исследовании, а затем уже мы поговорим о курсовой.
Санитарка привела больного, с которым Блюма Вульфовна начала тихо и, как мне показалось, задушевно беседовать, затем предложила ему разложить на столе какие-то картинки и объединить их в группы, затем выясняла, как больной понимает содержание пословиц и поговорок, попросила его что-то нарисовать, запоминать слова и пр. Смысл происходящего я, признаться, толком не улавливал, но изо всех сил старался быть внимательным в течение этого, показавшегося мне слишком долгим, часа. Наконец, больной уходит в отделение, и Блюма Вульфовна обращается ко мне: «Ну как Вам результаты исследования? Каково Ваше впечатление об этом больном?» На что я не нахожу сказать ничего иного, как то, что мне было «очень интересно». Блюма Вульфовна посмотрела на меня внимательно, сказал бы, даже пронзительно, и произнесла: «Я очень рада, что Вам было интересно». На всю жизнь я запомнил даже не столько саму эту фразу, сколько интонацию, с которой она была сказана. Тон при этом не был обидным или насмешливым, но непередаваемым образом как-то сразу ставил меня на место, а именно место малоосмысленного еще студента, только начинающего свой профессиональный путь.
Надо заметить, что с тех пор отнесенную к другим и себе оценку «интересно» я не люблю. И когда уже мои студенты говорят, что лекция была «интересной», я часто вижу в этом только поверхностную и непрофессиональную оценку. Думаю, что здесь речь идет не только об индивидуальном случае, но и о достаточно повторяющемся архетипическом для учителя и ученика сюжете. На это, кстати, наводят и воспоминания самой Блюмы Вульфовны, которыми она поделилась как-то с нами — своими учениками. Юная Блюма Герштейн (девичья фамилия Б.В. Зейгарник) поступила в 1921 г. в Берлинский университет и увлеклась психологией лишь после того, как однажды попала на лекцию «отца» зарождавшейся гештальтпсихологии Макса Вертгеймера (1880–1943). После окончания лекции она решительно подошла к маститому профессору и сказала, что ей «очень понравилась гештальтпсихология». Вертгеймер совершенно серьезно ответил ей: «И мне — тоже».
Может показаться неправильным столько места уделять первой встрече, первым словам, тогда как, казалось бы, разговор о научном руководителе, учителе должен касаться передачи идей, открытий, мыслей, направляющих ученика в мир науки. Но воспоминания имеют свои законы, и обычно мы удерживаем именно какие-то детали, слова, ситуации, смысл которых приходит, порой, много позже.
В любом учительстве есть текст, контекст и подтекст, причем последние столь часто оказываются даже более значимыми, чем первый. В моем случае, быть может, особенно: в конце выпускного V курса я стал лаборантом Блюмы Вульфовны и оставался им в течение двух лет, вплоть до поступления в целевую аспирантуру факультета. Это означало, что я выполнял множество разнообразных поручений: заказывал экспериментальные пособия, отвозил рукописи машинисткам, сопровождал Блюму Вульфовну в поездках и т.п.
Темы разговоров при этом были самыми разными, в том числе (если не в большинстве) весьма далекими от научных. Я часто бывал дома у Блюмы Вульфовны, пил чай на маленькой кухне, общался с ее младшим сыном Владимиром и его семьей (они жили в одной квартире в Тишинском переулке), на моих глазах рос внук Андрюша, при мне появился внук Миша. О дарах и уроках этого общения я бы и хотел сказать в первую очередь.
Начну с отношения к людям. Недостаточно сказать, что оно было всегда доброжелательным. Таковое, хоть и редко, но встречается. Особенностью отношения Блюмы Вульфовны к людям состояло в том, что за ним ненавязчиво угадывались ее мудрость и опыт жизни, понимание, снисхождение и, не рискну сказать прямо — любовь, но жалость, жаление человека, как один из синонимов проявлений любви. Я никогда не слышал от нее злых слов осуждения о ком-то, а слова оправдания — многократно. При этом ощущалось, что Блюма Вульфовна прекрасно видит человека, проникает в него до самой его сути, далеко не всегда светлой. Но даже нелицеприятная оценка высказывалась не прямо, она была как бы упакована в некоторую, слегка юмористически окрашенную, форму. Примером здесь может быть и вышеприведенная фраза: «Я очень рада, что Вам было очень интересно».
Или такая сцена. Идет научное обсуждение. И вот после кого-то из маститых (по-моему, П.Я. Гальперина) выступает молодой напористый аспирант, отвергая все направо и налево и в резкой форме утверждая как единственно правильное свое мнение. Сразу вслед за ним встает Блюма Вульфовна и начинает со следующего обращения к нему: «Как я Вам искренне завидую! Ведь Вам все так ясно и понятно в этой проблеме. А для меня здесь видится много неясного и спорного. Например…»
Она умела поставить на место, выявить внутреннюю суть происходящего, но делала это не пафосно и обличительно, а в форме мягкой иронии, которую мог для своей пользы принять и сам «обличаемый». Так, на прямой вопрос, как она оценивает научные достижения того или иного ученого, она при мне никогда не давала негативных оценок. Ее ответ звучал примерно так: «Он [далее следовала некоторая пауза, словно бы для взвешивания ответа] не Выготский». Иногда, опять задумавшись, как бы проверяя себя, повторяла, удостоверяла: «Не — Выготский». И только по этим паузам и интонации можно было понять, насколько тот, о котором спрашивалось, был далек от безусловного для нее эталона психологической науки — Льва Семеновича Выготского.
Такое поведение Блюмы Вульфовны было, конечно, уроком, но отнюдь не назидательным, не прямо декларируемым. Однако, находясь с ней, ты как-то незаметно начинал пропитываться определенным отношением к миру и людям. Но, конечно, от тебя самого зависело поддаться или противостоять этой «пропитке». Так или иначе, я нередко вспоминаю об этих уроках отношения. Вот, например, мы идем вместе по улице. И вдруг к ней бросается какой-то человек: «Здравствуйте, Блюма Вульфовна, как я рад Вас видеть!» Блюма Вульфовна тоже, видимо, обрадована этой встречей, задает вопросы о работе, семье, детях, и они, наконец, в лучших чувствах расстаются. Блюма Вульфовна ждет, когда человек скроется за поворотом, потом поворачивается ко мне, пожимает плечами и говорит: «Понятия не имею — кто это!» Мне тогда подобная сцена казалась странной. Но вот и сам дошел до зейгарниковских лет, и порой ко мне на улице подходят те, кто слушали меня 10–20–30 лет назад, и я, не отдавая себе в том отчета, пользуюсь уроками Блюмы Вульфовны, оживленно говорю, сердечно расстаюсь и затем, если иду со спутником, оборачиваюсь к нему, пожимаю плечами и говорю с похожими, наверное, интонациями: «Понятия не имею, кто это!» Еще бы: за преподавательскую жизнь с тобой общаются, слушают тысячи, и каждого сидящего перед тобой не упомнишь. Но урок Блюмы Вульфовны неукоснителен: думай о другом, будь то больной в клинике или студент, вчера или несколько лет назад слушавший тебя.
Эта благожелательная и профессионально точная направленность на другого была у Блюмы Вульфовны постоянной. Вот мы сидим в помещении кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, обсуждаем какой-то деловой вопрос. Входит студент, задает технический вопрос: где найти такого-то преподавателя или что-то в этом роде. Студент получает ответ и уходит. Блюма Вульфовна прерывает разговор и молча внимательно смотрит вслед ушедшему студенту, затем произносит как бы про себя, не обращаясь ни к кому из присутствующих: «Какой сложный мальчик». Это прозвучало как внутреннее сочувствие, опасение, беспокойство за судьбу неведомого ей студента. Она своим клиническим и жизненным опытом, несмотря на краткость и периферийность произошедшего, увидела неполадки в душевном состоянии и, мгновенно взвесив их, посочувствовала человеку.
И это, конечно, не единственный случай. Сын Блюмы Вульфовны Владимир Альбертович рассказывал, например, что однажды они с мамой случайно встретили на вокзале сослуживца Владимира, которого раньше Блюма Вульфовна никогда не видела. Они поздоровались, обменялись несколькими формальными фразами и разошлись. Помню, Владимир добавил, что был вечер и было темно. После этой непродолжительной встречи Блюма Вульфовна дала в двух словах характеристику сослуживца, с которой Владимир был сначала совершенно не согласен, но в дальнейшем эта характеристика полностью подтвердилась. Доверяя Блюме Вульфовне, дипломницы и аспирантки, прежде чем принять окончательное решение о выборе спутника жизни, старались показать ей своего избранника и спросить мнения о нем.
Конкретный живой человек, его лицо, судьба были для нее в центре, доминантой, а оценка его работы, поступка, успеха, скорее — на периферии. Внук Блюмы Вульфовны Андрей опубликовал важную биографическую статью о Блюме Вульфовне, в частности описал эпизод, в котором вместе с Блюмой Вульфовной экзамен по патопсихологии принимал «один молодой преподаватель». Последний спрашивал внимательно и дотошно, задавал дополнительные вопросы сидящей перед ним студентке. Блюма Вульфовна отозвала его в сторону и спросила: «Вы что, умеете принимать роды? Отпустите же ее поскорей» (Зейгарник, с. 423). Преподаватель, оказывается, не заметил, что студентка беременна, но для Блюмы Вульфовны это обстоятельство было главным, тогда как экзамен и оценка ее знаний оказывались глубоко вторичны. (Замечу в скобках, что невнимательным «молодым преподавателем» был автор этих строк.)
Вообще, для Блюмы Вульфовны именно студентки, молодые женщины, особенно находящиеся в трудных житейских обстоятельствах, были в приоритете ее внимания. Она в первую очередь старалась помочь им, искала для них место работы, старалась выхлопотать ставки на кафедре и др. Сотрудники-мужчины всегда оказывались в этом плане на втором месте. Думаю, что это связано с перипетиями ее собственной жизни, теми испытаниями, с которыми ей пришлось столкнуться. Поэтому хотя бы кратко напомню вехи ее биографии.
***
Женя-Блюма Герштейн родилась 27 октября 1901 г. (9 ноября по новому стилю) в литовском городе Пренай. Она с золотой медалью окончила Алексеевскую женскую гимназию в Минске. В 1919 г. вышла замуж за Альберта Янкелевича Зейгарника, и вскоре они вместе уехали в Берлин, чтобы получить там высшее образование. Блюма поступила в университет, Альберт — в политехнический институт.
Особое влияние на Блюму, да и на всех студентов философского факультета производил тогда молодой доцент Курт Левин. Вокруг него собрались студенты, имена которых теперь украшают учебники психологии: М. Овсянкина, А. Карстен, Т. Дембо, Ф. Хоппе, Б.В. Зейгарник, Н. Юкнат. Левин встречался с ними не только на лекциях и семинарах, он беседовал, устраивал диспуты в кафе, на совместных прогулках, даже на парусной спортивной яхте. Блюма Вульфовна вспоминала, как он однажды так увлекся каким-то объяснением, что забыл об управлении яхтой, которая настолько опасно накренилась, что Блюма Вульфовна в ужасе закричала: «Господин Левин, сделайте что-то, иначе мы опрокинемся!» Широко известно, что идея, которая послужила началом для дипломной работы Блюмы Вульфовны, возникла в кафе, куда Левин пришел вместе со студентами. Каждый что-то заказал себе, и Левин обратил внимание на то, что официант ничего не записал в блокнот, но на просьбу воспроизвести сложный заказ сделал это легко и без ошибки. Тогда Левин спросил его, а что заказал тот господин, который только что расплатился и ушел? Официант ответил, что не помнит содержание выполненного заказа. Работа Зейгарник стала, по сути, психологическим объяснением этого явления — сравнения продуктивности запоминания законченных (удовлетворенных) и незаконченных (неудовлетворенных) действий.
Подчеркнем, что речь шла (так же как в исследованиях Дембо, Карстен и других) о выпускной дипломной работе, и ее автор никак не мог предвидеть дальнейшую всемирную известность этого исследования, открытого в нем «феномена Зейгарник». Как и полагается после защиты, Блюма Вульфовна в компании друзей шумно, весело и допоздна отмечала окончание Берлинского университета. На следующий день рано утром, вспоминала Блюма Вульфовна, ее разбудил требовательный телефонный звонок. Это звонил профессор Вольфганг Кёлер — один из основных столпов гештальтпсихологии: «Блюма, — строго сказал он в трубку, — знаете, что Вы вчера сделали?» «Что я сделала? — подумала испуганная Блюма. Может, что-то набедокурила на студенческой пирушке, и поступила какая-то жалоба?» «Блюма, — сурово продолжал Кёлер, — Вы сделали научное открытие!»
В 1927 г. на основании исследований запоминания законченных и незаконченных действий Блюме Вульфовне была присвоена степень доктора философии. До 1931 г. она работает внештатным сотрудником Левина в Берлинском университета, а ее муж Альберт — в советском торгпредстве в Германии. В 1931 г. Альберта переводят на работу в Москву. Блюма Вульфовна начинает свою работу в Институте высшей нервной деятельности, который в 1932 г. был преобразован в отдел Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). Блюма Вульфовна знакомится и начинает сотрудничать с Л.С. Выготским. В 1935 г. ей присваивают степень кандидата биологических наук. Как пишет А.В. Зейгарник, немецкая степень доктора философии, естественно, не шла в счет, скорее, наоборот, этот «подозрительный титул уместнее было скрывать» (Там же, с. 417).
Что касается кандидатской степени, то она была присуждена, по словам Блюмы Вульфовны, без защиты. И этому способствовало в немалой степени то, что в Москву приезжал тогда Вольфганг Кёлер. Когда он узнал, что Блюма Вульфовна не имеет здесь, в СССР, ученой степени, то выразил соответствующим лицам крайнюю степень недоумения, указывая на ее заслуги перед психологией. Столь авторитетное мнение оказалось как нельзя кстати. Так Вольфганг Кёлер второй раз поспособствовал утверждению Блюмы Вульфовны как ученого высокого ранга. В дальнейшем она всегда вспоминала о нем с теплотой.
Летом 1940 г. семья Зейгарников снимает дачу. В семье к тому сроку родилось двое детей: старшему, Юрию, было шесть лет, младшему, Владимиру, — меньше года. Непосредственно на этой даче арестовывают Альберта Янкелевича. Обвинения — шпионаж (надо ли говорить, что обвинение преступно ложное, как и многие тысячи тогда подобных).
Лечащим врачом детей Блюмы Вульфовны была совсем молодая тогда педиатр Нина Михайловна Знаменская (позже она консультировала всех, наверное, детей московских патопсихологов, включая и моих детей). Знаменская однажды рассказала мне, что Блюма Вульфовна была буквально невменяема в эту пору и не запоминала даже простую последовательность процедур для детей. Знаменская заставляла ее записывать все рекомендации в отдельную тетрадку и затем проверяла, верно ли они поняты.
Сама Блюма Вульфовна не говорила прямо, по крайней мере со мной, об этом периоде, но иногда касалась косвенно, в частности, как аргумент в разработке очень важной, по ее мнению, психологической проблемы — проблемы личностного опосредования. Так, на одной из лекций Блюма Вульфовна, рассуждая об опосредованиях личности, привела в пример молодую женщину с малыми детьми, которая узнала об измене мужа. Как следствие, у нее появились невротические симптомы: она не могла находиться в этой местности, потом ездить на пригородных поездах, потом на любом транспорте, словом, началось невротическое развитие. И тогда она решила искать средство борьбы с таким развитием: она снова сняла дачу в том же месте, стала находить специальные способы отвлечения и т.п. Прототипом этой пациентки была, конечно, сама Блюма Вульфовна, только вместо пустяшной на этом фоне «измены» речь шла о трагедии ареста, крушении прежней жизни.
После скорого следствия и суда Альберт Янкелевич Зейгарник получил приговор «десять лет строгого режима без права переписки». Десять тяжелейших лет прошли, но муж не появлялся. «Вскрылись новые обстоятельства, возбуждено дело, ведется следствие», — был официальный ответ. Оставалось ждать и в определенное время приходить в приемную МГБ на Кузнецком мосту, чтобы узнать о ходе следствия. И она шла, выстаивала долгую очередь, чтобы протиснуться, наконец, к маленькому окошку и сказать сидящему там безликому чину: «Зейгарник Альберт Янкелевич, дело на пересмотре, №...» Чин брал с полки одну из больших канцелярских тетрадей, раскрывал, искал графу, потом говорил: «Следствие не закончено. Следующий!»
Все было известно заранее, и все надежды были тщетными. Поэтому каждое такое посещение было мукой, но не пойти было невозможно. Блюма Вульфовна, опять же поясняя опосредование личности, сказала однажды: «И вот, чтобы пойти туда, я представляла, как пойду обратно». Этот поиск и нахождение средства для того, чтобы преодолеть непреодолимое, она и обозначала как личностное опосредование. Можно даже сказать, что это была ее заветная тема, которая, однако, не получила, на мой взгляд, полной реализации в ее собственных работах, но была затронута в исследованиях некоторых ее учеников (Е.С. Мазур, А.Б. Холомогоровой и других).
Не знаю точно, когда тайна приговора «десять лет без права переписки» и бесконечно длящегося «пересмотра дела» открылась Блюме Вульфовне в своей страшной сути. Она мне об этом никогда не говорила. Могу лишь по аналогии сослаться на воспоминание Марины Густавовны Штрох — дочери философа Густава Густавовича Шпета, получившего от НКВД такой же приговор в те же годы: «В начале семидесятых, когда солженицынский “Архипелаг Гулаг” пошел гулять в самиздате, мы получили на несколько дней перепечатку этих книг, где просто черным по белому было написано: “Десять лет строгих лагерей без права переписки — это синоним расстрела”» (Якович, с. 214).
Надо ли говорить какой след, вернее, какую никогда не заживающую рану оставили эти события в душе Блюмы Вульфовны. Внук Андрей констатирует: «Основным в ее жизни стал страх прежде всего за судьбу своих детей, внутренняя цензура. При необыкновенной душевной открытости, которая была так свойственна ее характеру, появилась закрытость информационная. Внутри семьи она избегала тем, которые так или иначе касались родственников, живших за границей, или берлинского и доберлинского периодов ее жизни. Все, что связывало ее с западной наукой, практически было табуировано. Марксистское мировоззрение считалось «официальным», а о том, что одна действительно думает и чувствует, можно было только догадываться. Многие ученые оставляют после себя автобиографии, архивы, записные книжки, воспоминания. Блюма Вульфовна не оставила почти ничего. Все было уничтожено ею. Дело осложняется еще и тем, что немногочисленные записи, которые сохранились, изобилуют неточностями. Часть этих неточностей — результат «конспиративной программы», от которой она предпочитала не отступать (Зейгарник, 418).
Здесь, наверное, надо пояснить для современного читателя: речь идет о страхе, весьма отличающемся от многочисленных страхов современной жизни. Террор переводится как ужас, и Блюма Вульфовна не просто пережила, но впитала его на уровне глубинного внутреннего ощущения и постоянного опасения его повтора. Я встречал людей этого поколения, которые до конца жизни вздрагивали, если ночью во дворе останавливалась машина и хлопала ее дверца. Полвека прошло с той остановившейся у подъезда ночью машины, которая забрала мужа, отца, деда, а «мозжечковая память» срабатывала мгновенно. Мне не раз говорили люди этого поколения, что внутренне вздрагивают каждый раз, когда слышат из репродуктора вагона московского метро: «Следующая станция — Лубянка». «О том, что такое российский страх, его вес и значение в Истории, может поведать каждый, кто не спал ночами, пугаясь каждой проезжей и вдруг застопорившей у подъезда машины», — писал один из ровесников Блюмы Вульфовны (Габрилович, с. 248).
***
После начала Отечественной войны Блюму Вульфовну направляют в восстановительный госпиталь, который находился в г. Кисегач Челябинской области, где она работает вместе с Александром Романовичем Лурией, Сусанной Яковлевной Рубинштейн и другими психологами над восстановлением психических функций тяжелораненых бойцов. В 1943 г. Блюма Вульфовна с детьми возвращается в Москву. Она застает разграбленную квартиру и захвативших ее чужих жильцов. С большими трудами и хлопотами ей удается вселиться с детьми в собственные комнаты.
С 1943 г. она работает в Центральном научно-исследовательском институте психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР, организует там лабораторию патопсихологии. В 1949 г. начинает читать курс патопсихологии на отделении психологии философского факультета МГУ. Казалось бы, наконец наступили мирные времена, и психология, столь успешно проявившая себя в годы Отечественной войны (восстановление трудоспособности раненых бойцов, решение психофизиологических задач светомаскировки и адаптации, обоснование новых нейропсихологических подходов и др.) могла начать спокойное развитие. Однако вскоре после войны прокатились одна за другой тяжелыми волнами, по крайней мере, три идеологические кампании, ударившие с разной степенью (можно сказать, по нарастающей) по психологической науке (Братусь, 2000).
Во-первых, эта кампания против генетики (1948) как «лженауки», «буржуазной выдумки» и «идеологической диверсии». Какая может быть генетика со своими внутренними законами, когда все должно управляться извне, опираясь на соответствующие директивы партии и правительства. Теперь это может показаться анекдотом, но главный борец с генетикой — президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина Трофим Лысенко — утверждал, что рожь можно переделать в овес, если на то будет соответствующая воля партии. Тогда, однако, психологам было не до смеха, ведь они тоже изучали некие внутренние законы — законы развития психики человека. По правилам материализма, эти законы не должны быть сколь-нибудь автономны от внешних условий и предписаний. Психика должна не своевольничать, а подчиняться тому единственно правильному представлению о человеке, которым владеет только коммунистическая идеология.
Дело оставалось за малым — за конкретизацией «правильного представления» применительно к психологии. Это и выполнила следующая идеологическая кампания. Официально она называлась «Объединенной научной сессией Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения И.П. Павлова». Сокращенно все ее называли павловской сессией (1950). Эта сессия, ее решения должны были окончательно поставить психологию на твердый естественнонаучный фундамент и свести ее, по сути, к рефлекторной продукции высшей нервной деятельности (ВНД). При этом важно понять, что это была не научная дискуссия, где возможны самые разные точки зрения. Павловское физиологическое учение получило официальный статус «последовательно-материалистического», одобренного самой Коммунистической партией направления, и потому другие точки зрения сразу становились «неправильными», «вредными», а их носители — «заблуждающимися» или «врагами», против которых нужны самые решительные способы борьбы. Замаячила реальная угроза полного упразднения психологии и повсеместной замены ее на физиологию ВНД.
Наконец, последняя напасть называлась борьбой с космополитизмом (1951–1953). Стало поноситься все иностранное, выпекавшаяся сто лет французская булка стала называться городской, слово «лозунг» заменено словом «призыв», доказывалось, что самолет изобрели не братья Райт, а инженер Можайский, ссылки на иностранных авторов рассматривались как крамола или «низкопоклонство перед Западом». Спецификой этой кампании была ее выраженная антисемитская направленность; так, если ученый был евреем, то он автоматически, одним фактом своей национальной принадлежности, получал клеймо «безродного космополита» и как носитель этого клейма подлежал «проработке» и «изгнанию» (как минимум, увольнению с работы). Не миновало это ни Б.В. Зейгарник, ни А.Р. Лурию, ни С.Л. Рубинштейна, ни С.Я. Рубинштейн, ни Д.Б. Эльконина, ни многих других замечательных ученых-психологов.
Здесь надо обязательно сказать, что в ситуации этой государственно организованной травли, громких кампаний и дел (дела «врачей-отравителей», дела «еврейского антифашистского комитета» и др.) окружающие вели себя по-разному. А.В. Зейгарник пишет: «Директором НИИ психиатрии в момент увольнения Блюмы Вульфовны с работы был профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов, который высоко ценил и уважал ее. О нем можно было бы сказать много добрых слов, но история увольнения Блюмы Вульфовны — более красноречивое свидетельство его человеческих достоинств. Мелехов был поставлен перед необходимостью ее уволить, но он всячески оттягивал этот момент и, наконец, придумал следующую уловку. Он отправил ее на больничный на целый год. И в те времена, да и сейчас, нельзя было уволить человека, находившегося в отпуске по болезни, но и бюллетенить целый год тоже было невозможно. Поэтому она возвращалась с больничного на пару дней и отправлялась «болеть» вновь. В течение очередных «двух дней» он якобы не успевал уволить ее, хотя готовый к подписанию приказ лежал на его столе все это время. Наконец, тянуть больше было нельзя. В разговоре с Блюмой Вульфовной он сказал: «Простите меня, я вынужден Вас уволить, но пообещайте, что завтра же Вы подадите на меня в суд». После этого она продолжала приходить на работу, но средств к существованию у нее не было. В это время А.Р. Лурия и С.Я. Рубинштейн вновь пришли ей на помощь. Они помогали ей деньгами, а Александр Романович всячески хлопотал, чтобы дать ей возможность заработать хотя бы немного. Впоследствии в аналогичной ситуации оказалась и сама Сусанна Яковлевна, и тогда уже Блюма Вульфовна помогала ей. Антисемитская кампания пошла на спад после смерти Сталина, но только в 1957 году Блюма Вульфовна была восстановлена в должности заведующей патопсихологической лаборатории и проработала в ЦНИИ психиатрии до 1967 года» (Зейгарник, с. 420–421).
В 1958 г. Блюма Вульфовна защитила докторскую диссертацию, в 1965 г. ей было присвоено звание профессора. Вышли ее книги, которые стали настольными для патопсихологов: «Нарушения мышления у психических больных» (1958), «Патология мышления» (1962), «Введение в патопсихологию» (1969), «Личность и патология деятельности» (1971).
В 1969 г. впервые с берлинского периода жизни Б.В. Зейгарник получает возможность выехать за границу на Международный психологический конгресс в Лондон. Я — тогда ее старший лаборант — хорошо помню трудности получения этой возможности, вплоть до личных хлопот декана факультета А.Н. Леонтьева. Наконец, Блюма Вульфовна выезжает, но не в качестве делегата, а в качестве «научного туриста», т.е. с полной оплатой дороги и проживания, а «туризм» заключался в возможности посещения заседаний конгресса.
Однако там, в Лондоне, отношение к представителям официальной делегации и к «туристу» резко поменялось, точнее, стало на свое место: Блюма Вульфовна оказалась фигурой, а остальные — фоном. Среди факультетских легенд об этом посещении была, например, такая: во время торжественного представления участников английская королева дежурно улыбалась при произнесении ничего не значащих для нее фамилий до поры, пока прозвучала фамилия Зейгарник — королева оживилась (может, психологию до того изучала) и сказала несколько добрых слов. А вот действительное наблюдение, которое я слышал от нескольких участников. В перерыве к Блюме Вульфовне выстроилась целая очередь. Все знали о «феномене Зейгарник», но многие полагали, что это мужчина, что автора, наверное, давно нет в живых, ибо из-за «железного занавеса» о нем все эти годы не доносилось никаких вестей. И вдруг перед ними маленького роста пожилая женщина, исследователь, патопсихолог, живая история. Каждый хотел пожать ей руку, сказать несколько теплых слов. Блюма Вульфовна рассказывала, что в этой толпе к ней протиснулся высокий мужчина с бородой, который, наклонившись к ней сказал: «Вы меня, конечно, не знаете, но я внук Вертгеймера». На что Блюма Вульфовна ответила: «Ну как же это я Вас не знаю. Прекрасно помню. Я пришла к Вашему дедушке со своей работой, а вы забрались на стол, ползали там и, простите, обмочили всю мою рукопись».
Здесь, наверное, уместно сказать еще об одном даре Блюмы Вульфовны, связанном, как я думаю, с ее великими учителями — Куртом Левином и Львом Выготским. Для обоих психология была неотрывна от жизни. Уже говорилось, что Левин мог видеть и иллюстрировать психологические закономерности в любой ситуации, будь то работа официанта в кафе или продавщицы в галантерейном магазине. Выготский не раз говорил, что за сознанием, за психологией всегда лежит (иногда он говорил — «плещется») жизнь. Для Блюмы Вульфовны психология также была неотрывна от жизни. Сам по себе отдельный взятый результат исследования мало что значил. Он мог быть понятым, психологически осмысленным лишь в контексте жизненной ситуации. В этом плане психологию, по крайней мере, психологию личности, должны интересовать не только и даже не столько факты , сколько акты целостной ситуации, в которых (часто — только в которых) имеют место и смысл эти факты.
После Лондонского конгресса Блюму Вульфовну стали приглашать за границу, но каждый раз она должна была ответить, что по состоянию здоровья и в связи с ее учеными планами она не может покинуть Москву. В переводе на человеческий язык это означало, что ее не пускали либо «не рекомендовали» в связи с ее жизненным анамнезом. Этого намека было достаточно, чтобы отказаться от поездок. Однажды она рассказала мне, что в ответ на приглашение (по-моему, из Венгрии), о котором она узнала лишь задним числом, послали кого-то из «своих психологов», который, прибыв в Венгрию, сказал, что Б.В. Зейгарник по состоянию здоровья не смогла приехать, и он сейчас готов ее заменить. К чести коллег, с ним не захотели иметь дело.
Несмотря на все прожитое, несмотря на «конспиративную программу», от которой она не отступала до конца жизни, Блюма Вульфовна оставалась участником и свидетелем развития европейской психологии, которая была до 30-х гг. XX в. во многом единой, включающей в себя как важную часть российскую психологическую науку. Вспомним, что до печально известного постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936) в стране успешно развивались помимо педологии (детской и педагогической психологии), психотехника (психология труда), психоанализ, поведенческая психология, зоопсихология, тестология, социальная психология, существовали тесные личные связи с ведущими зарубежными учеными, в частности, между Левином и Выготским (Bratus, 2011). Для Блюмы Вульфовны представители той европейской психологии были реальными людьми со своими особенностями, сложностями, слабостями. И мы через это живое свидетельство тоже входили, пусть бочком, частично, в этот мир, отделенный от нас историческим временем и «железным занавесом». Вот я принес ей рукопись (до эры компьютеров еще много лет и с каждой бумажкой не побежишь к машинистке, да и дорого для студента). Блюма Вульфовна читает и спотыкается о грамматическую ошибку. Откладывает работу и говорит мне: «Ну, Вы прямо как Левин. Он тоже писал очень неграмотно и мог, например, спросить жену, громко крикнув в другую комнату: «Wie schreibe ich das Wort Stuhl? Mit "h" oder nicht?» (Поясню, что написание слово «Stuhl» без «h» — грубая ошибка.) Такое юмористически окрашенное замечание оказывается не только скрытой поддержкой и ободрением нерадивого ученика, но и милой подробностью облика великого психолога. Левин — уже не портрет на стене, а живая фигура, сидящая за письменным столом в своем домашнем кабинете напротив Блюмы Вульфовны (твоего нынешнего учителя).
В Германии научного руководителя докторской (у нас — кандидатской) диссертации в обиходе иногда называли «фатер-доктор», и тогда для меня Б.В. Зейгарник — «мутер-доктор», а Курт Левин, ее «научный отец» («фатер-доктор»), по законам родства приходится мне, соответственно, «научным дедушкой» («гросфатер-доктор»). Конечно, в жизни я его не застал, но по «материнскому» преданию знаю об его облике, деталях поведения и жизни, словечках и привычках.
К слову сказать, и некоторые другие мои замечательные наставники в патопсихологии обращали иногда внимание на мои грамматические ляпы, но говорили при этом, например, следующее: «Никогда сразу не давайте читать свои рукописи. Сначала отдавайте их на перепечатку машинистке. Тогда ошибки можно будет отнести за счет ее неграмотности». Почувствуйте разницу: сослаться в оправдание на Левина или свалить ошибки на машинистку.
***
Хочу подчеркнуть, что речь выше идет не просто о частной, мемуарной стороне, которую можно учитывать, а можно и не учитывать при анализе деятельности ученого. Между тем, это «частная сторона» — один из главных источников специфики научной продукции. Так, теория Левина и теория Выготского остаются одними из немногих, которые могут быть применены к конкретным людям и обстоятельствам и за которыми «плещется жизнь». Точно так же и зейгарниковская патопсихология во многом имеет своим источником личность самой Блюмы Вульфовны, для которой любые экспериментальные данные рассматривались и получали оценку в соотнесении с целостной личностью человека.
Нет, недаром при самом первом знакомстве с тем, как Блюма Вульфовна исследует больного, мне показалось, что она с ним просто беседует по душам: тихо и без всякого нажима. Между тем она проводила строгое экспериментальное исследование, но объективные данные каждой методики были упакованы, находились в постоянно меняющихся контексте и подтексте живой личности пациента, его реакций, оценок, переживаний.
Такой подход остается крайне важным не только для психологии, но и для психиатрии. Об этом, в частности, писал еще в самом начале зарождения патопсихологии выдающийся отечественный психиатр В.А. Гиляровский, сотрудничавший с молодой Блюмой Вульфовной в 1930-х гг. Так, в учебнике 1938 г. мы читаем, что ценность существовавших на тот момент психологических методов для психиатрии весьма относительна, «так как они дают известное представление об интеллекте, не затрагивая эмоциональной и волевой стороны и вообще личности в целом». На этом фоне куда «больше, как будто, обещают некоторые новые методы, идущие от психолога Левина, например, метод установления соотношения между количеством законченных и незаконченных действий. Методы психологического эксперимента вообще подлежат переработке именно в направлении исканий таких методов, которые бы позволили судить о состоянии личности в целом» (Гиляровский, с. 167). Именно это направление, начатое Блюмой Вульфовной, стало классическим, а значит актуальным и сегодня.
***
В 1978 г. Б.В. Зейгарник была присуждена высшая научная награда МГУ — Ломоносовская премия первой степени за цикл работ, посвященных проблеме нарушений психики. В 1980 г. она участвует в Международном конгрессе по психологии в Лейпциге. Спустя полвека она снова на немецкой земле. И здесь, как и в Лондоне, к ней привлечено внимание многих.
В 1983 г. Блюме Вульфовне присуждают престижную Международную премию имени Курта Левина. В дни, когда пришла эта весть, я (уже не лаборант, а доцент) был по какому-то поводу у нее дома. Мы рассматривали только что принесенные красивые бумаги Международного комитета по присуждению премии Левина, список лауреатов, среди которых ведущие мировые звезды психологии личности, изысканное письмо, где говорилось, что Блюма Вульфовна приглашается вместе со своим ассистентом в США за счет комитета, и после лауреатской публичной лекции, ей будет торжественно вручен диплом. Затем мы пили чай на кухне, Блюма Вульфовна была на подъеме и говорила о поездке «с ассистентом», подразумевая в этом почетном качестве меня.
Но это не была бы Блюма Вульфовна с ее горьким советским опытом, если бы она сразу ответила на известие словами принятия и благодарности. Извещение о присуждении премии было отнесено в факультетский партком, и последний должен был решить, может ли Блюма Вульфовна принять эту премию имени своего Учителя или гордо отвергнуть как чуждую советскому психологу. Партком, не решаясь на самостоятельное суждение в столь ответственном вопросе, обратился к эксперту, специализировавшемуся на изучении происков идеологических врагов, — некоему Р. Тот спустя время сообщил, что принимать такую премию советскому психологу не следует, потому что, во-первых, среди списка лауреатов нет ни одного представителя «социалистического лагеря» и, во-вторых, Курт Левин — агент ЦРУ. Р. имел в виду, что во время Второй мировой войны Левин сотрудничал с Центром стратегических исследований (преобразованном впоследствии в ЦРУ), где занимался психологической подготовкой разведгрупп, засылаемых в тыл фашистов. После сложных дебатов премию все же милостиво разрешили принять, но, конечно, без всякой поездки за ней в Америку («вместе с ассистентом»). Блюма Вульфовна, как обычно, сообщила устроителям, что по состоянию здоровья никак не может выехать для торжественного вручения диплома.
1980-е гг. — календарно последние годы жизни Б.В. Зейгарник. Напомним, она — ровесница века, и ей тогда пошел девятый десяток лет. И каких лет по сложности и драматизму! Но и в эти годы она продолжала читать курсы лекций, руководить дипломниками и аспирантами. Ее лекционная манера отличалась простотой и доходчивостью. В ее речи не было никакой выспренности, аффектации и нажима, и тем не менее сказанное всегда оставляло след, запоминалось, проясняло суть проблемы. Мой коллега В. (тогда он был аспирантом) так однажды оценил эти лекции: «Вот слушаешь профессора Н. — эрудиция, последние сведения, блеск, накал, а выходишь из аудитории и — ничего не помнишь. А Блюма Вульфовна говорит вроде бы простенько, негромко, а выходишь наполненным, и это остается при тебе».
В эти годы выходят новые книги Б.В. Зейгарник: «Очерки по психологии аномального развития личности» (совместно с Б.С. Братусем, 1980); «Теория личности Курта Левина» (1981); «Теория личности в зарубежной психологии» (1982); «Патопсихология» (1986). И это при том, что она уже тяжело болела. Во второй половине восьмидесятых состояние ухудшилось. Я разговаривал однажды с ее лечащим врачом в больнице, и та говорила, что такого пациента она не встречала в жизни. Вот Блюму Вульфовну привозят на каталке после операции с применением наркоза. Она на короткое время приходит в сознание, видит медсестру и сразу говорит: «Ой, Леночка! Как я рада, что Вы как раз сегодня дежурите, замечательно!» Сознание опять покидает ее. Даже в этом состоянии она была повернута к другому, поддерживая и помогая ему быть человеком. В феврале 1988 г. Блюмы Вульфовны Зейгарник не стало.
***
Мелкие несчастья выводят нас из себя, большие — возвращают нас себе, — писал Л.Н. Толстой. В этом плане мудрое и бесконечно терпеливое отношение Блюмы Вульфовны к другим было во многом следствием прожитой ею судьбы, изобилующей большими невзгодами, следствием опытного понимания всей хрупкости и уязвимости человека и — одновременно — заложенной в нем возможности добра и света. Это понимание было не умствованием, не назиданием, а ежедневностью ее жизни: несмотря ни на что, Блюма Вульфовна постоянно несла добро и свет. В этом, наверное, и секрет того, что ее уважали и любили все окружающие. А.Р. Лурия называл ее не иначе как Блюмочка и говорил, что весь психологический мир знает феномен Зейгарник, но не все знают, что сама Зейгарник — феномен. Сопровождая Блюму Вульфовну, я не раз был свидетелем того необычного оживления, которое вызывало ее появление в любом ученом собрании. Маститые профессора вскакивали с мест, целовали руку, обнимали, говорили теплые слова. Однажды я должен был прийти заранее на какое-то совещание (по-моему, по вопросам личности), и моим соседом по креслу оказался какой-то психиатр из провинции, который до этого никогда Блюмы Вульфовны не видел и не знал, кто она). Входит Блюма Вульфовна и производит обычный в этих случаях переполох. Он с недоумением наблюдает эту сцену, затем оборачивается ко мне и спрашивает: «Скажите, кто эта маленькая больная старая женщина, с которой все так здороваются?» Ну, что было ответить ему — крупному здоровому молодому мужчине, на которого при его входе в зал не обратили никакого внимания.
***
На первом курсе меня поразило сведение о том, что, находясь в полной темноте ночи, человек способен различить огонек свечи на расстоянии около 30 километров. Я подумал: если человек заблудился, то как он ободрится и потянется даже к столь дальнему свету? Нам повезло: Блюма Вульфовна была совсем рядом с нами, сохраняя и преумножая, несмотря на шквальные ветры эпохи, тот огонь познания, что передавался Выготским и Левином, Кёлером и Вертгеймером. Да не прервется эта живая эстафета, не погаснет в новых поколениях тяга к свету, мудрости и любви!
Литература
- Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: Конспективное рассмотрение. М.: Флинта, 2000.
- Габрилович Е.И. Последняя книга. М.: Локид, 1993.
- Гиляровский В.А. Психиатрия. М.; Л.: Медгиз, 1938.
- Зейгарник А.В. Блюма Вульфовна Зейгарник (попытка воспроизведения жизненного пути) // Клиническая психология: В 4 т. / Под ред. А.Б. Холмогоровой. Т. 1. М.: Академия, 2010. С. 414—424.
- Якович Е. Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Штрох. М.: АСТ; CORPUS, 2014.
- Bratus B. Obraz czlowieka w psycologii rosyjskej o d Revolucji 1917 do drugiej wojny swiatowej / Psychologia Europejska w okresie miendzywojennym. Warszawa: Vizja Press, 2011. S. 17—27.
Источник: Братусь Б.С. Феномен Зейгарник и Б.В. Зейгарник как феномен // Вопросы психологии. 2022. №3. С. 113–125.

.jpg)







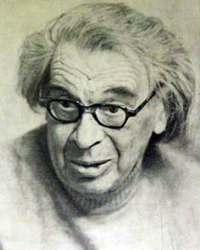








.jpg)
































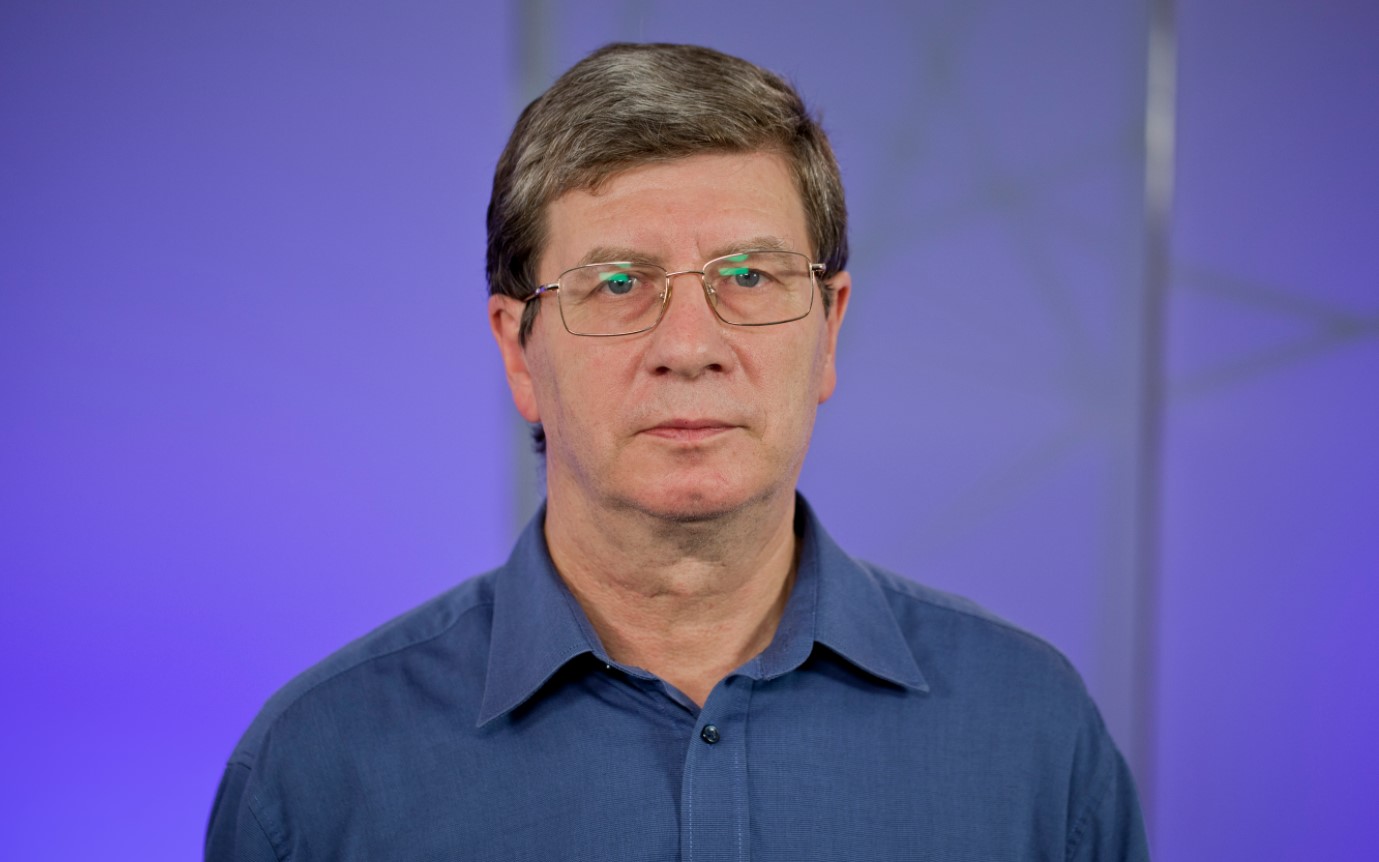




















Сложные были времена и сложные у настоящих ученых были судьбы.
Хорошо, что память о них в наших сердцах остается. В сердцах их учеников и последователей.
Мне представилась возможность в 2020 году поучаствовать в замечательной конференции Зейгарниковские чтения, посвященной памяти 120 - летия со дня рождения Блюмы Вульфовны. Хочу сказать спасибо Организаторам конференции и ее участникам за ту память, которая не должна быть забытой. А настоящая статья свидетельство тому. что она не забыта.
С уважением, Валерий Михайлович.
, чтобы комментировать
Спасибо за тёплые, живые воспоминания о Блюме Вульфовне Зейгарник.
, чтобы комментировать