
Проблема
Определим практическую психологию как отрасль психологии, которая использует теории и принципы функционирования психики для решения проблем индивида и социума, в которых центральным звеном является сознание человека. Разумно полагать, что для реализации своего общественного предназначения практической психологии необходим тандем и тесное сотрудничество с теоретической психологией.
Однако в настоящее время в российской психологии наблюдается ситуация, когда практическая работа психологов с индивидуальным сознанием получила автономию от теоретического понимания структуры и роли сознания. Появилось мнение, что теоретические представления о сознании слишком абстрактны и не отражают потребностей практического психолога, а поэтому практический психолог может обойтись без университетского курса по фундаментальной психологии. Реакцией на эту позицию явился законопроект «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации», внесенный на обсуждение в Госдуму, который предписывает необходимость для практического психолога иметь базовое психологическое образование [1]. Поскольку такое базовое образование должно включать и знание о законах функционирования сознания, возникают следующие проблемы:
- каковы причины возникшей в настоящее время недооценки роли теоретических разработок в психологии сознания для науки, практики и общества;
- в чем сущность теоретических представлений о сознании;
- какова особенность теоретической психологии сознания по сравнению с другими науками;
- с какой реальностью работает практический психолог сознания;
- нужна ли базовая подготовка по психологии и другим теоретическим дисциплинам для работы практического психолога;
- какие проблемы решает теория и практика в работе с сознанием сегодня;
- есть ли будущее у теоретической психологии сознания.
Целью данной статьи является попытка кратко осветить указанные проблемы применительно к современной ситуации в российской психологии.
Итак, в чем причины недооценки значения теоретической психологии сознания для практики сегодня?
Причины недооценки значения теоретической психологии сознания для практики, науки и общества
В статье «О недавно возникшем высокомерном тоне в философии», опубликованной в 1796 году, Иммануил Кант пишет, что заблуждаются те философы, которые полагают, что легко могут решить сложные проблемы, для решения которых требуется огромное трудолюбие и понимание того, что любые усилия человека несоразмерно малы по сравнению с трудностью таких проблем [2].
Но если во времена Канта философы-теоретики имели возможность высокомерно относиться к практикам, то в настоящее время возникла обратная ситуация: подобный высокомерный тон иногда можно уловить у некоторых практических психологов-терапевтов, которые полагают, что поскольку они работают с живыми людьми, то их работа намного более ценна и общественно значима, чем работа психологов-теоретиков. Такой тон появился в России в 1980-х, когда психотерапия стала проникать в среду российских психологов, и стали приезжать психотерапевты с Запада. Одновременно по центральному телевидению стали показывать психотерапевтические сеансы гипнотерапевта А. Кашпировского и сеансы прикладной магии А. Чумака. Многие психологи, доселе успешно работавшие в теоретической и экспериментальной психологии, а также специалисты других направлений науки стали переходить в психотерапевты. Стало модно говорить, что теоретическая психология сознания, которая успешно развивалась в России до этого, мало чего стоит, что она практически бесполезна и больна анемией. Напротив, практическая психология, особенно психотерапия и психологическая консультация — это работа с реальными людьми, с клиентами, она приносит пользу и востребована обществом.
В итоге стала возникать понятийная и социальная пропасть между теоретической и практической психологией сознания.
Согласно недавно опубликованной в «Психологической газете» статье Е.В. Левченко [3], в силу разных причин в настоящее время академическая психология задвинута в самый дальний отсек на шкале интереса и значимости для науки и социума как не имеющая прямого отношения к запросам жизни, а если что и признается как ценное, так это практическая психология и психотерапия: «В настоящее время схизис науки и практики в сфере психологии усугубляется тенденцией утраты академической психологией прежнего центрального статуса в системе наук, вытеснением ее на периферию научного знания» [ibid]. По мнению некоторых упомянутых в цитируемой статье авторов, не только в нейронауке, но и в философии сознания имеет место тенденция обойтись без теоретической психологии, а психотерапевтам и коучам «совсем не обязательно считаться с имеющимися психологическими концепциями и моделями и тем более опираться на них» [ibid]. Причины упадка значимости теоретической психологии видят в нечеткой организации психологического знания, в его архаичности и некогерентности и в постоянной тенденции фундаментальной психологии «само-оправдывать» свой научный статус в кругу философии и естественных наук. В результате фундаментальная психология стала квалифицироваться как «ослабленный» вариант научности. Но верно ли такое представление в отношении теоретической психологии сознания?
Сущность теоретических представлений о сознании: краткий экскурс
Традиционно понятие сознания исследовалось в философии как обобщенная категория. Так, у Декарта сознание — это «естественный свет», открытый человеку в самонаблюдении, у Канта сознание включает чувственный компонент, рассудок и разум, у Гегеля сознание есть процесс понимания себя абсолютным духом. В настоящее время в мировой философии существует более ста подходов к теоретическому пониманию сознания [4]. В дореволюционной России сложилось два подхода к сознанию: теоретическо-философский анализ сознания (Л.М. Лопатин, П.Е. Астафьев, Н.Я. Грот, Г.И. Челпанов) и рефлексологический, сродный бихевиоризму (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, К.Н. Корнилов) [5]. В советский период разрабатывались понятия о психологии сознания как субъективной реальности, имеющей собственный онтологический статус наряду с бытием (С.Л. Рубинштейн [6]), как высшей форме психического отражения (А.Н. Леонтьев [7]), как внутреннем мире человека (Б.Г. Ананьев [8]), как результате работы суггестии (внушения) в филогенезе психики (Б.Ф. Поршнев [9]), как неосознанных процессах «установки» (Д.Н. Узнадзе [10]) и как высших психических функциях, имеющих системное и смысловое строение (Л.С. Выготский [11]). В то же время указанные исследования сознании носили в основном теоретический или теоретико-экспериментальный характер.
Попытка приблизить представления о сознании к практике была сделана в рамках культурно-исторического подхода к сознанию (А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). Целью этой попытки было найти способ объективного подхода к «живой субъективности» так, чтобы сознание было доступно манипулированию подобно тому, как физики манипулируют материей. Этот способ был найден в культуре — нормах, языках, понятиях и т.п. Отсюда выросли все направления — утверждение ведущей роли речи в формировании ВПФ у Л.С. Выготского, понятие ООД у П.Я. Гальперина, школьные программы обучения генеративным понятиям у Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, нейропсихологические методики А.Р. Лурии, исследования развития произвольных движений А.В. Запорожца и др. Все это работало, но сама живая субъективность в рамках этого подхода оставалась загадкой. Дело в том, что культурное — это как раз не живое, а, по выражению Николая Бердяева, «объективированное», то есть застывшее и окаменевшее. Ложка, компьютер, слово, научное понятие, двигательный навык — это тоже субъективность, но не живая, а «мертвая», превращенная в «коллективное» и доступное всем, то есть окаменевшее. Целью культурно-исторического подхода является управление живой субъективностью, направление ее по определенным каналам. Когда мы овладеваем логическим мышлением, научными понятиями или культурно-санкционированными формами восприятия или поведения, мы вынуждены отказаться от свободы нашего Я в пользу общекультурного МЫ.
Но живая субъективность как вода — с помощью механики воду можно направить куда угодно, заставить бить в фонтанах, но сама структура воды остается неизвестной. Тут механики недостаточно, нужна химия. Поэтому изучение живой субъективности оставалось преимущественно в руках писателей, художников и поэтов.
То, что я буду здесь называть живым сознанием, — это не поведение, а ощущение себя живым, воспринимающим, фантазирующим, мыслящим и желающим. Характерными признаками живой субъективности являются ее приватность, чувство свободы и недифференцированность. Ведь когда мы ощущаем, вспоминаем, мыслим, фантазируем, желаем или верим, мы не используем какую-то специфическую психическую функцию: наоборот, в каждый акт живой субъективности вовлечены все известные нам функции одновременно. В отличие от объективированного сознания, оформленного в речь, логическое мышление или нормы поведения, живое сознание работает по законам магии, таким как партиципация (отождествление явлений, логически не связанных друг с другом), ассоциация по сходству и контакту или прямое воздействия сознания на реальность [12; 13]. Поэтому традиционно практическими формами воздействия на живое сознание были магические практики, которые в мировой психологии оформились как психоанализ, психотерапия и психологическое консультирование, а в Россию пришли во время перестройки.
Особенность теоретической психологии сознания по сравнению с другими науками
Ослабление интереса к теоретической психологии сознания вызвано отсутствием у большинства ученых в области наук о человеке консенсуса в понимании того, чем, собственно, занимается фундаментальная психология сознания. Ученые, особенно естественники, в этом не виноваты, поскольку даже некоторым психологам трудно принять тот факт, что теоретическая психология сознания — это не наука в обычном понимании этого слова, а дисциплина, предметом которой является рефлексия на субъективную реальность и описание субъективной реальности сознания. Этим она отличается от философии, которая отрицает «психологизм», и от нейронауки, смежной с физиологией и, в пределе, с физикой. На самом же деле субъективная реальность (которая здесь именуется живым сознанием, в отличие от «мертвого» сознания, объективированного в форме знания) лежит в основе не только физики или математики, но и нейронауки. Возьмите определение любого понятия в любой науке (например, числа в математике, массы в физике, информации в кибернетике, живой клетки в биологии, нейрона в нейронауке), и станет очевидно, что в основе этих понятий лежит субъективный опыт, частично врожденный, частично приобретенный еще в младенчестве, а затем обогащенный в индивидуальном развитии. Например, в физике понятие массы определяется как «мера сопротивления, которое тело оказывает любым изменениям своего состояния покоя или движения», а «чтобы сообщить телу ускорение, к нему следует приложить силу». При этом ясно, что ученик может понять эти выражения только если в своем интуитивном опыте он знает, что такое тело, сопротивление, покой или движение, а чтобы открыть дверь, нужно приложить силу. В биологии в понятие живой клетки входит интуитивное понимание замкнутого объема, которое ребенок получает от нахождения в замкнутом пространстве дома или комнаты.
Живое сознание предшествует научному исторически (философия выросла из отрицания мифологии), логически (физика, химия и астрономия появились из магии, алхимии и астрологии) и онтогенетически (в развитии ребенка магическое мышление предшествует научному). Поэтому теоретическая психология сознания как дисциплина фундаментальнее науки [14]. Но поскольку живое сознание подчиняется не законам физики или формальной логики, а законам магии, то неправомерно сравнивать предмет теоретической психологии сознания с предметами других наук, а значит, и предъявлять к психологии сознания как дисциплине те же критерии, которые предъявляются к точным наукам. Цель науки — объяснение сложного через простое, цель теоретической и экспериментальной психологии сознания — описание субъективной реальности во всей ее сложности и необычности и использование этого описания для объяснения объективной реальности и практической работы с живым сознанием.
Например, такие феномены, как творческое мышление, воображение и вера, сами по себе необъяснимы, то есть не сводимы к более простым понятиям, но их можно описать (теоретическая и экспериментальная психология сознания) и стимулировать (практическая психология живого сознания). Есть явления, которые трудно объяснить, но в принципе можно. Большинство людей не понимают, как работает их смартфон, но не страдают от этого, так как всегда можно обратиться за помощью к специалисту. А есть явления, которые в принципе не могут быть объяснены. Таким феноменом является наше живое сознание. И как обидно — оно так легко доступно каждому и настолько проще, чем смартфон, а вот объяснить его, то есть свести к более простым явлениям, — нельзя. Даже мозг объяснить в принципе можно, хотя до этого еще очень далеко, а живое сознание объяснить нельзя. Парадокс. Но живое сознание можно описать, а описание использовать для лучшего понимания более простых феноменов, таких, например, как ИИ. Живой интеллект — это проявление живого сознания, а ИИ — это феномен внешнего объективированного сознания, такой же, как язык или математика. Недоступность живого сознания для объяснения и алгоритмизации накладывает принципиальный предел на то, что можно ожидать от ИИ: при помощи ИИ мы можем решать очень сложные задачи, но творить принципиально новое, любить, страдать и сострадать нам придется самостоятельно.
В свете сказанного выше возникает вопрос, нужна ли практическому психологу базовая подготовка по фундаментальной психологии сознания?
С какой реальностью работает практический психолог сознания: достоинства и опасности психотерапии
Как известно, практическая психология сознания существовала в России и раньше, до прихода психотерапии. Разрабатывались психологические программы обучения и воспитания детей, нейропсихологические методы помощи больным с поражениями мозга, практические приложения в инженерной психологии и психологии труда и другие. Но эти практические приложения психологии были в контакте с теорией и экспериментом в рамках культурно-исторического подхода к сознанию, и в них отсутствовал элемент власти над живым сознанием человека, характерный для психотерапии. Именно с появлением и распространением психотерапии возникло ощущение, что теоретическая и экспериментальная психология сознания не то чтобы не нужны, но что психотерапевтом можно стать и без базового психологического образования. Одновременно у некоторых практических психологов-консультантов и психотерапевтов возникло ощущение превосходства собственной профессии над профессией психолога теоретика и экспериментатора. То, как властный элемент в психотерапевтическом процессе связан с ощущением превосходства по отношению к теоретикам сознания, — это предмет специального исследования, который выходит за рамки этой статьи. Проблема была в том, что ощущение превосходства по отношению к теории и базовому психологическому образованию поставило под вопрос о необходимости такого образования вообще.
Конечно, казалось бы, что после более чем 40 лет развития психологического консультирования и психотерапии в России разрыв между практической и теоретической психологией сознания должен был быть преодолен, но некоторые статьи, недавно опубликованные в «Психологической газете», показывают, что это не так [3; 24]. По-прежнему есть практические психологи, которые свысока относятся к теоретической психологии и полагают, что никакие постановления и проекты, утверждающие необходимость базового психологического образования, ничего не изменят: практические психологи и психотерапевты будут работать «с живыми людьми» и приносить обществу пользу независимо от теоретической психологии, а теоретические психологи — работать с абстрактными идеями, которые мало что дают обществу, а имеют целью лишь пиар для их авторов. Разумеется, в этой статье речь не идет о том, чтобы умалить значение психотерапии и психологического консультирования: бесспорно то, что распространение психотерапии в России имеет большое практическое значение, поскольку дает возможность людям, нуждающимся в психологической помощи, эту помощь получить, и это практическое значение только растет.
Но с превращением психотерапии из «штучного товара» в массовую профессию возникает вопрос — а кто такие психологические консультанты и психотерапевты как люди, и какова их реальная мотивация? Уверены ли мы, что все психотерапевты — это хорошие, нравственные люди и имеют своей целью помочь клиенту, а не получить материальную или психологическую выгоду за счет клиента? Для психологов-теоретиков этот вопрос стоит не так остро, как для психологов-консультантов и психотерапевтов, поскольку последние имеют прямой доступ к живому сознанию человека и могут на него повлиять «здесь и теперь». Те предложения о психотерапевтической помощи, которые мы сегодня видим в интернете, — где гарантия, что эти предложения исходят от добропорядочных и квалифицированных психотерапевтов? Даже если бы психотерапевт не получал деньги за свою работу (что случается редко), всегда потенциально имеется возможность злоупотребить своим положением властной персоны в коммуникации. То, что психотерапевт является властной персоной в коммуникации — неизбежно, так как клиент обязан доверять психотерапевту, иначе эффекта воздействия не получится. В психоанализе это феномен переноса доверия со значимых других на терапевта, в НЛП первым актом терапии является установление отношений доверия или раппорта между терапевтом и клиентом, и даже в клиент-центрированной терапии, в которой создается атмосфера безусловного принятия интересов и мыслей клиента, терапевтический эффект не может быть достигнут без доверия. Но где есть доверие одного человека другому, а критическое мышление ослаблено или отсутствует, там есть и возможность такое доверие обмануть и использовать для личных целей. Особенно велика такая опасность в так называемых Т-группах «личностного роста», в которых к элементу доверия индивидуального клиента к ведущему присоединяется элемент коллективного доверия, а у ведущего непроизвольно возникает ощущение собственного превосходства, которое необходимо подавлять. Знаю это на собственном опыте, так как в таких группах участвовал и сам их проводил. Вот почему «работа с живыми людьми» — это не только возможность принести пользу людям, но и возможность принести пользу себе за счет этих людей. Не сомневаюсь, что большинство психотерапевтов в России — это люди, достойные доверия своих клиентов, но ведь могут быть и исключения, и хотелось бы, чтобы таких исключений было как можно меньше. Каким же образом можно предотвратить возможные злоупотребления доверием клиента? Один из возможных способов — внешний этический контроль. Например, в Великобритании чтобы провести психологический эксперимент, необходимо сначала доказать специальному комитету по этике то, что не будут нарушены принципы национального этического кода психолога-экспериментатора. Происходит ли в России подобный контроль «этического качества» психотерапии в каждом конкретном случае?
Так, в этическом кодексе Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) в Принципе 3 указано: «Моральные и законодательные нормы поведения имеют для психотерапевтов такое же значение, как и для остальных людей, за исключением случаев, когда это может воспрепятствовать выполнению ими профессиональных обязанностей или уменьшить доверие общества к психотерапевтам и психотерапии в целом», а в Принципе 5а отмечено, что «психотерапевты стремятся к «прозрачным», открытым, честным отношениям с клиентами. Они обязаны иметь представление о своих личных потребностях и о потенциальном влиянии своей позиции на тех людей, с которыми они взаимодействуют: клиентов, студентов, тренируемых и подчиненных. Они обязаны избегать злоупотребления доверием и зависимостью этих людей. Психотерапевты должны приложить все усилия для избегания двойственных отношений, которые могут навредить их профессиональному суждению или увеличить риск злоупотребления» [15; см также 16]. Несомненно, эти и другие указанные этические принципы необходимы так же, как необходим и внешний контроль за их соблюдением. Но дело в том, что эти принципы уязвимы для интерпретаций; что еще более важно, это то, что сознательно психотерапевт может полагать, что он соблюдает указанные принципы, а неосознанно злоупотреблять доверием клиента. Ведь невозможно проводить психотерапевтический сеанс и при этом снимать его на камеру с целью последующего контроля со стороны специальной этической комиссии, так как это нарушало бы Принцип 4 «Конфиденциальность».
Каковы возможности злоупотребления доверием клиента в терапии? На мой взгляд, их несколько. Перечислю некоторые.
Перерождение. В ходе работы с клиентом у терапевта может возникнуть соблазн под видом психологической помощи решать свои собственные личные проблемы, как материальные, так и психологические (ощущение собственной власти и контроля над жизнью и поведением клиента или группы). В таком случае терапия из психологической помощи превращается в магическую манипуляцию сознанием. Поскольку грань, которую при этом переходит терапевт, может быть незаметной как для клиента, так и для самого терапевта, необходима разработка форм контроля и самоконтроля, предотвращающих пересечение терапевтом этой невидимой грани. Разработка этих форм контроля и самоконтроля невозможна без понимания принципов работы живой субъективности.
Подвешенность. Вторая опасность, подстерегающая терапевта, работающего с живой субъективностью, состоит в отсутствии внешних опор для действия, поскольку в данном типе деятельности терапевт работает с магическим мышлением клиента, но и его собственное мышление подчиняется законам магии. Например, у физика или врача для ориентации в обращении с материей или телом человека есть объективные опоры во внешней реальности (законы физики или биологии). Такие же объективные опоры имеются у психолога, работающего в рамках культурно-исторического подхода: это логические структуры мышления, научные понятия и теории, социальные нормы поведения и общепринятые формы восприятия внешней реальности. У терапевта живой субъективности такие опоры отсутствуют, поскольку у живой субъективности нет объективных законов. Поэтому терапевт вынужден действовать в соответствии с законами симпатической магии и «вкладывать» в клиента элементы своей собственной живой субъективности — свой опыт жизни и переживания, которые могут совпадать или не совпадать с аналогичным опытом у клиента. Например, психоаналитик работает со спонтанными ассоциациями, сновидениями или воспоминаниями клиента и их интерпретацией, в клиент-центрированной терапии важным элементом является внимательно и доброжелательно выслушать клиента, создавая у него эффект принятия, свои приемы и методы есть и у других видов психотерапии, но все они так или иначе требуют от терапевта опоры на свой собственный опыт и сознание [17]. Иными словами, в работе с живой субъективностью психотерапевт во многом опирается на интуицию и может судить об эффективности своих действий лишь по реакции клиента, который и является в конечном итоге «последней инстанцией» и окончательным судьей эффективности терапевтического воздействия, что делает результат воздействия принципиально не предсказуемым, а лишь вероятностно прогнозируемым.
Передозировка влияния. Согласно психоанализу, любые сознательные действия человека требуют затраты психической энергии. Психическую энергию не следует смешивать с физической, которую мы затрачиваем, например, при совершении физических упражнений. Так, после трудного экзамена мы устаем как после тяжелой работы, не потратив при этом физической энергии. Недавние исследования в науках о мозге продемонстрировали, что такая энергия — не метафора, а вполне реальная сила, которая может быть измерена по объективным показателям, таким как частота сердечных сокращений или уровень глюкозы в крови [18; 19]. Эксперименты показали, что любой акт самоконтроля заставляет уровень глюкозы в крови падать ниже оптимального уровня, что затрудняет последующие попытки самоконтроля. Затрата психической энергии происходит в любой деятельности, требующей усилия контроля над собой. Например, способность справляться с неприятными мыслями о смерти требует такого усилия, а это усилие расходует психическую энергию из имеющегося у человека ограниченного запаса такой энергии. В серии специальных экспериментов участников одной группы просили писать рассказ о смерти, а участников другой — рассказ на нейтральную тему. После этого участникам обеих групп предлагали выполнять одинаковые задания, требующие высокой степени самоконтроля. Оказалось, что писавшие о смерти выполнили задания на самоконтроль значительно хуже, чем писавшие на нейтральную тему [20; 21]. Поскольку терапия живой субъективности требует больших затрат психической энергии пациента, которая имеется у человека в ограниченном объеме, чрезмерное вмешательство в ее состояние может привести к истощению психической энергии и в итоге — к депрессии или, у больных с неврологическими нарушениями деятельности мозга, к ухудшению состояния.
Энергетический вампиризм. Психическая энергия живой субъективности может не только тратиться, но и передаваться другим через подчинение, восхваление и другие формы психологического взаимодействия. Так, человек, получивший награду или признание людей, испытывает прилив психической энергии, а получивший неодобрение теряет энергию и может впасть в состояние депрессии. Поскольку в процессе психотерапии терапевт нуждается в безусловном доверии клиента, возникает опасность эксплуатации этого доверия. Незаметно для самого терапевта ощущение доверия клиента может перерасти в наслаждение этим доверием и ощущение собственной власти над сознанием и чувствами клиента. В своем крайнем варианте эта опасность, выйдя из-под контроля, может переродиться в «энергетический вампиризм» — подпитку терапевтом своей собственной психической энергии за счет психической энергии клиента [22]. Так терапевт, не знакомый с принципами функционирования живой субъективности, может незаметно для себя превратиться из подающего психологическую помощь в энергетического вампира.
Нарушение приватности. Особенностью живой субъективности является ее приватность. Никто, если он не обладает уникальной способностью к телепатии, не имеет доступа к чужой живой субъективности. Поэтому открытие клиентом терапевту доступа к своей живой субъективности, даже если такой доступ дан клиентом добровольно, может обернуться как добром, так и злом. Первоначально человек может чувствовать облегчение, поделившись с терапевтом своими секретами, но впоследствии почувствует разочарование, и терапевту необходимо ощущение той черты, за которую нельзя переступать.
Указанные формы возможных злоупотреблений в терапии возникают непреднамеренно и относятся к добросовестным психотерапевтам, которые сознательно преследуют цель помочь клиенту, в то время как материальная заинтересованность находится на втором плане. Так как внешний этический контроль, если таковой имеется, не может уберечь психотерапевта от непроизвольного совершения указанных выше ошибок, единственным средством не совершать этих ошибок остается внутренний этический контроль. Такой внутренний контроль поможет психотерапевту осознать, что в процессе психотерапии он приблизился к красной линии, за которой помощь клиенту может превратиться в манипуляцию его сознанием. Но такой внутренний этический контроль должен опираться на понимание законов функционирования живого сознания, а эти законы раскрываются теоретическими и экспериментальными исследованиями живого сознания, которые психотерапевту необходимо знать.
Проблема осложняется тем, что в настоящее время наряду с добросовестными психотерапевтами появилась категория «терапевтов-коучей», целью которых является получить выгоду за счет клиента. В медиа мы видим передачи об устроителях так называемых «марафонов желаний», которые зарабатывают сотни миллионов рублей на основе пусть и легального, но все же введения клиентов в заблуждение, подавая им необоснованную надежду научиться легкому обогащению. Другой, более циничной формой «работы с живыми клиентами» является телефонное мошенничество, достигшее в современной России таких размеров, что потребовало специального постановления правительства от 26 декабря 2024 года [23]. Возникает вопрос, как же отличить подлинных психотерапевтов от тех, кто использует имя или приемы психотерапии для неосознанного или сознательного личного обогащения?
И тут появляется необходимость обратиться к теоретической психологии сознания.
Нужна ли практическому психологу базовая подготовка по психологии сознания?
В недавно опубликованной в «Психологической газете» статье С.Б. Есельсона [24] задеты важные проблемы, связанные с соотношением теоретической и практической психологии, в частности:
- почему многие успешные психотерапевты и практические психологи не имеют базового психологического образования;
- в чем отличие теоретической психологии от практической психологии, включая психотерапию;
- как готовить специалистов по практической психологии;
- нужно ли практическому психологу-консультанту и психотерапевту базовое психологическое образование.
По существу, дискуссия по упомянутой статье вышла за пределы поставленной в статье проблемы и заставляет задуматься о соотношении практической и теоретической психологии в более широком контексте. Как мне кажется, в статье сделан упор на практическую подготовку психотерапевтов, в то время как о теоретической подготовке сказано мало. Более того, большинство опрошенных автором указанной статьи экспертов считают, что «для успешной работы психологом-консультантом и социальным психотерапевтом нужно уметь делать то, к чему не готовят и в принципе не способны готовить вузы» [ibid]. А поскольку, по мнению автора, «вузовские программы, на сегодня, нацелены на освоение некоторого объема теоретических знаний, и абсолютное большинство вузовских преподавателей — теоретики» [ibid], то легко сделать вывод, что теоретическая подготовка в области психологии психологам-консультантам не является необходимой. Думаю, сам автор статьи этого не имел в виду, но по содержанию такой вывод напрашивается, и с ним хочется подискутировать.
Так, образовательный стандарт Европейской ассоциации психотерапии, на который ссылается автор статьи, включает такие формы, как «обязательная личная психотерапия, практическая работа под супервизией, стажировка, дающая опыт встречи с психопатологиями и совместной деятельности с психиатрами». Конечно, такие практики необходимы, но достаточно ли этих практик для того, чтобы решать упомянутые автором наболевшие практические проблемы: как предотвращать теракты в школах и вузах; как предотвращать и как останавливать травлю (буллинг) в детско-подростковой среде; как предотвращать детские суициды? Ведь эти проблемы не только психолого-индивидуальные, но и уходят корнями в факторы социальные, культурные и даже исторические. Так, бродящие сейчас по интернету «игры», провоцирующие детей на суицид или издевательство над другими детьми, массовое увлечение подростками «зацепингом» (опасной ездой на крышах электровозов), распространение порнографической видеопродукции и другие формы асоциального поведения невозможно понять, не обладая знаниями о структуре живого сознания, о связи живого сознания с историей, культурой и диалектикой соотношения добра и зла в обществе и сознании индивида. Тонкий анализ живого сознания во всей его сложности дан в произведениях Ф.М. Достоевского, А.Н. Толстого и других гениев литературы, но использование такого анализа на практике возможно только через освоение достижений литературы теоретической психологией. Поэтому для того чтобы работать с проблемами живого сознания, практическому психологу необходим теоретический фундамент в понимании истоков этих проблем — психологических, социальных, культурно-исторических и даже философских.
Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд не имел базового психологического образования, но имел подготовку в разных областях медицины — неврологии, анатомии, психиатрии. Однако мостиком, который привел Фрейда к психоанализу, была идея, что гипнотерапия недостаточна для того, чтобы работать с сознанием, нужно обратиться к теории сознания, истории цивилизаций, антропологии и философии, та же идея была и у Юнга. И в ходе дальнейшего развития психотерапий нити тянулись из философии. Например, экзистенциальная психотерапия (В. Франкл, Р. Мэй) и клиент-центрированная терапия (К. Роджерс) имеют в своем основании философию экзистенциализма (Кьеркегор, Ницше, Хайдеггер, Сартр, Ясперс), когнитивная терапия восходит к философии стоиков, а НЛП — к философии языка и структурализму. Иными словами, мне кажется, что невозможно быть полноценным психотерапевтом без глубокого знания фундаментальных теоретических и философских основ психотерапии, а такие основы имеют один и тот же объект — сознание человека.
Вывод — психотерапевт работает с живым сознанием клиента (и своим собственным одновременно). Но, чтобы работать с живым сознанием, надо понимать, каковы психологические механизмы работы живого сознания. А кто изучал эти механизмы? Психологические экспериментальные работы по механизмам живого сознания насчитывают только несколько десятков лет и в основном опубликованы за рубежом (для библиографии см. [25; 26; 27]). Достаточно ли хорошо знакомы российские психотерапевты с этими работами?
Может быть, психотерапевту необязательно знать эти работы, так как у него есть его собственное сознание как модель? Если сравнить, сколько людей без базового психологического образования переквалифицировались на психотерапевтов, с количеством людей, прошедших переквалификацию на физика или врача, то, мне кажется, последних будет в разы меньше. Но почему? Во-первых, возможно, потому, что быть психотерапевтом интереснее, чем физиком или врачом. Но и потому, что для работы со своим предметом нужны орудия — то есть знание предмета. Чтобы получить знания по фундаментальной физике или медицине нужно годы сидеть над книгами и практическими занятиями, а для работы с живым сознанием клиента имеется готовое орудие — свое собственное живое сознание психотерапевта. Но знает ли психотерапевт свое собственное живое сознание достаточно хорошо, чтобы использовать его как орудие для работы с живым сознанием клиента? Для этого нужна подготовка в области философии, теоретической психологии, экспериментальной психологии живого сознания и других нужных областях знания.
Конечно, можно начинать работу с клиентом и без такой подготовки, ведь даже простая доброжелательная беседа с человеком влияет на человека. Но тогда психотерапия фундаментально не будет отличаться от магического внушения, и единственное отличие будет в том, что не употребляются магические термины (заговор, приворот, заклинание, порча). Экспериментальные работы по психологии живого сознания показывают, что фундаментальные механизмы внушения одинаковы у магического и обычного внушения [28], и поэтому то, что отличает психотерапевта от практикующего мага — это не только приемы психотерапии, но и знание того, как построено и функционирует живое сознание и как оно включено в социально-культурный контекст.
Я согласен с автором цитируемой статьи в том, что современное базовое психологическое образование не готовит студента к работе психотерапевта, но это не значит, что психотерапевт может обойтись без такого образования. Базовое психологическое образование, которое готовит психолога-теоретика и психолога-экспериментатора, должно быть дополнено базовым психологическим образованием, которое готовит психолога-терапевта, способного работать не только с восприятием, памятью или мышлением, но с целостным живым сознанием человека. Это базовое образование, по минимуму, должно включать глубокий курс философии, психиатрии, экспериментальной психологии сознания, психологии убеждения, риторики и лингвистики. Эта теоретическая основа и должна сформировать у будущего психотерапевта способность к внутреннему контролю за процессом работы с живым сознанием, а это поможет обеспечить и соблюдение этических принципов психотерапевта. Только на такую теоретическую основу должны накладываться практические занятия.
Разумеется, обучение психолога-терапевта требует дополнительного времени. Например, в Великобритании бакалавр по психологии должен еще 4 года доучиваться для того, чтобы получить квалификацию психотерапевта. Но такое «доучивание» уже основано на базовом психологическом образовании. Так что идея создать двухступенчатое образование психологов уже опробована на практике и успешно работает за рубежом.
Далее, как показал Мишель Фуко, представления о психиатрии исторически обусловлены [29]. На мой взгляд, то же относится и к психотерапии. Одно дело — обучение психотерапии в России 1980-х, другое дело сейчас. Упомянутые в цитируемой статье корифеи психотерапии без базового психологического образования — это первопроходцы, которые вырабатывали свою теоретическую базу самостоятельно или имели ее ранее, но при теперешнем массовом спросе на психологов-консультантов и терапевтов, особенно в текущий момент истории, нужна институционально фиксированная теоретическая подготовка. На разработку такой фиксации и направлен предложенный Госдуме законопроект, который, конечно, нуждается в доработке.
Итак, без изучения практикующими психотерапевтами и психологами-консультантами фундаментальных психологических знаний, теоретических основ психотерапии и других смежных дисциплин невозможно сформировать у них теоретико-этическое ядро личности психотерапевта, дающее возможность осознанного самоконтроля в процессе работы с клиентом. Без базового психологического образования возникает опасность превращения практического психолога в поверхностного «специалиста-технаря», владеющего навыками психотерапии, но не способного осознать всю глубину и сложность работы с живым сознанием, а значит, преодолеть опасность злоупотребления доверием клиента, что в сочетании с теми, кто использует приемы магической манипуляции живым сознанием людей для собственной выгоды, может в значительной степени нивелировать пользу от психотерапии [30].
Но и теоретическая работа с живым сознанием обогащается за счет практической работы. Достаточно упомянуть, какое огромное влияние на представления о человеке и вообще на современную культуру оказал психоанализ.
Теория и практика в работе с живым сознанием сегодня
В настоящее время перед теоретической психологией сознания стоят задачи такого уровня сложности, что даже приближение к ним с целью извлечь кристалл новизны из-под груды общеизвестных банальностей требует от теоретика большой работоспособности и напряжения всех интеллектуальных сил, а окончательное решение этих проблем доступно лишь богам. К таким проблемам можно отнести проблему структуры и функций разных областей индивидуального сознания, проблему роли индивидуального сознания во вселенной, проблему происхождения живого сознания, проблему смысла индивидуальной человеческой жизни и некоторые другие.
Важна и практическая работа с живым сознанием типично развивающихся индивидов, которая требует понимания того, как функционирует живое сознание. В отличие от психотерапевтической работы, которая в основном нацелена на коррекцию, практическая работа с живым сознанием типично развивающихся детей и взрослых нацелена на его активацию и высвобождение его позитивного потенциала. Например, экспериментально было показано, что не-авторитарный стиль общения способствует увеличению творческой активности на занятиях лепкой и рисованием и повышает уровень критического мышления и морального поведения детей [31; 32], а погружение в магическую реальность активирует дивергентную креативность, запоминание и избирательное восприятие у детей и взрослых [33].
Заключение. Есть ли будущее у теоретической психологии сознания?
Как я пытался показать выше, практическая психология живого сознания без теоретической и экспериментальной вырождается в интуитивную магию, которая может обернуться как добром, так и злом для клиента. К сожалению, успехи «детей психологии» (физики, нейронауки и кибернетики) затмили значение их «матери» — теоретической психологии сознания — в современном обществе. Но такое затмение не будет длиться долго, и фундаментальное значение теоретической психологии сознания как дисциплины о субъективной реальности снова выйдет на первый план тогда, кода ее «дети» столкнутся с пределами своего развития, такими, с какими уже столкнулась квантовая физика, показавшая, что объективная реальность поведения элементарных частиц зависит от наблюдателя, а наблюдатель — это живое сознание человека, «вынесенное наружу» и объективированное при помощи приборов наблюдения. Столкнулись с такими пределами и нейронаука (не объяснимые в терминах физиологии феномены плацебо, нейропластичности и произвольного действия) и популярный ныне ИИ (невозможность запрограммировать и внедрить в ИИ субъективность в форме квалиа). Но не будем ждать, пока ученые, пристально вглядывающиеся во внешний мир и не замечающие своей субъективной реальности, поймут основополагающую роль теоретической психологии сознания в конструировании мира [34]. Будем работать, и время покажет, что эта работа не просто для выживания, но для понимания смысла существования человека.
Литература
- Законопроект «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации» внесен в Госдуму, Психологическая газета, 20.02.2025 https://psy.su/feed/12885/
- Кант, И. (1796). О недавно возникшем высокомерном тоне в философии. https://vuzdoc.ru/107911/filosofiya/nedavno_voznikshem_vysokomernom_tone_filosofii_perevod_koptseva
- Левченко Е.В. О трудностях интеграции фундаментальной и теоретической психологии. Психологическая газета, 15.01.2025 https://psy.su/feed/10766/
- Kuhn, R.L. A Landscape of Consciousness. https://www.researchgate.net/publication/377744305_A_landscape_of_consciousness_Toward_a_taxonomy_of_explanations_and_implications
- Грот, Н.Я., Лопатин Л.М., Бугаев Н.В., и др. (2015). О свободе воли. Опыты постановки и решения вопроса. М: Ленанд.
- Рубинштейн, С.Л. (2012). Бытие и сознание. СПб: Питер.
- Леонтьев, А.Н. (2005). Деятельность, сознание, личность. М: Смысл.
- Ананьев, Б.Г. (1977). О проблемах современного человекознания. М: Наука.
- Поршнев, Б.Ф. (1974). О начале человеческой истории. М: Мысль.
- Узнадзе, Д.Н. (1961). Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси: Изд. Акад. Наук Груз ССР.
- Выготский, Л.С. (1999). Мышление и речь. М.: Лабиринт
- Субботский, Е.В. (2015). Невидимая реальность: Сознание в зеркале магического мышления. Психолог, 3, 33-67. DOI: 10.7256/2409-8701.2015.3.14198 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14198
- Субботский, Е.В. (2025). Субъективное — это реальность? Психологическая газета, 06.05.2025. https://www.psy.su/feed/13063/
- Subbotsky, E. (2023). Examining the Psychological Foundations of Science and Morality. New York and London: Routledge.
- Этический кодекс ОППЛ https://oppl.ru/o-nas/polojenie-ob-eticheskih-printsipah-ppl.html#princtip3
- Этический кодекс ЕАРПП. https://earpp.ru/kodeks-jetiki-i-professionalnoj-praktiki-ekpp/
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Психотерапия#Клиническая_психотерапия
- Benton, D., Parker, P. Y., Donohoe, R.T. (1996). The supply of glucose to the brain and cognitive functioning. Journal of Biosocial Science, 28, 463–479.
- Fairclough, S.H., Houston, K. (2004). A metabolic measure of mental effort. Biological Psychology, 66, 177-190.
- Gailliot, M.T., Baumeister, R.F., Schmeichel, B.J. (2006) Self-regulatory processes defend against the threat of death: Effects of self-control depletion and trait self-conrol on thoughts and fears of dying. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 49-62.
- Gailliot, M.T., Baumeister, R.F., DeWall, C.N., Maner, J.K., Plant, E.A., Tice, D.M., Brewer, L.E., Schmeichel, B.J. (2007). Self-control relies on glucose as a limited energy source: Willpower is more than a metaphor. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 325-336.
- Csöff, R. (2022). Energy Vampirism — An Issue for Psycho-Social Self-Care and Prevention. Academia Letters, Article 4590. https://doi.org/10.20935/AL4590
- http://government.ru/docs/53879/
- Есельсон С.Б. (2025). «Король голый. Нужно менять всю модель подготовки психологов». Психологическая газета, 27.04.2025. https://psy.su/feed/13054/
- Rozin, P. Millman, L., Nemeroff, C. (1986). Operation of the laws of sympathetic magic in disgust and other domains. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 703-712.
- Subbotsky, E. (2010). Magic and the mind. Mechanisms, functions and development of magical thinking and behavior. New York and London: Oxford University Press.
- Subbotsky, E. (2024). The Magic of Living Consciousness. The Wonders of the Mundane. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Subbotsky, E. (2007). Children’s and adult’s reaction to magical and ordinary suggestion: Are suggestibility and magical thinking psychologically close relatives? British Journal of Psychology, 98, 547-574.
- Фуко, М. (2023). Осторожно: Безумие. О карательной психиатрии и обычных людях. М.: Родина.
- Субботский, Е.В. (2022). Разум в паутине: Магическая манипуляция сознанием и противодействие ей. Психологическая газета, 18.08.2022. https://psy.su/feed/10239/
- Субботский, Е.В. (1981). Генезис личностного поведения у дошкольников и стиль общения. Вопросы психологии, 2, 68-78.
- Субботский, Е.В. (1979) Формирование морального действия у ребенка. Вопросы психологии, 3, 47-55.
- Субботский Е.В. (2014). Научиться у Гарри Поттера. Психолог, 2, 52-93. DOI: 10.7256/2306-0425.2014.2.12159 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=12159
- Subbotsky, E. (2025). The “Natural Light” of consciousness: Living Consciousness as a Means and Subject of Psychological Research. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.























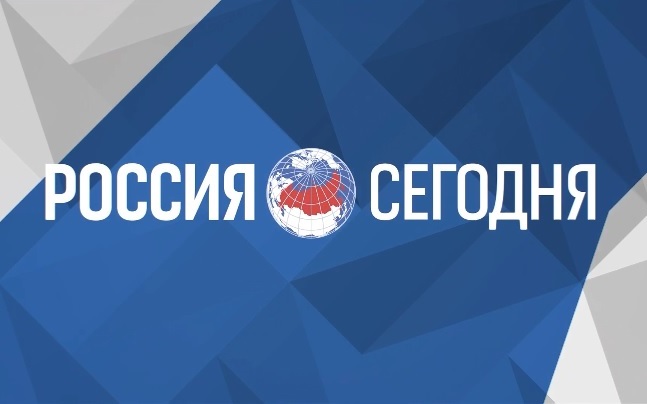






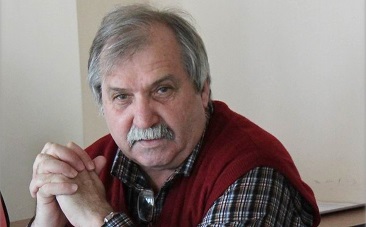



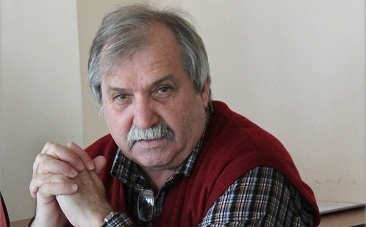









































Спасибо, что актуальную проблему снова поднимаете. Бардак в практической психологии полнейший. Сама до сих пор краснею за свой красный магистерский диплом. Увы и ах. Я чистый практик, базирующийся в большей мере на советской психологической школе (Выготский, Леонтьевы, Лурия, Рубинштейн, Узнадзе, а также труды Павлова и Бехтерева по психологии и прочих титанов, которых надо хотя бы прочесть разок любому что теоретику, что практику). Для работы это бесценно. Весь свой фундамент для работы я вынесла когда-то из педагогического образования языкового, т.к. в серьезной лингвистике без Леонтьева и Лурии никак, а в педагогике без Выготского и его последователей. В клинической психологии без Павлова, Бехтерева и многих других.
Испокон веков у нас принято смотреть в сторону западной школы почему-то, хотя у нас всё есть. Конечно, необходимо знать и интегрировать, но...
Не знаю, как там "интуитивно" практикуют сейчас, вернее сказать, шаманят инфорцыгане и другие представители, зачастую, дипломированные, но без фундаментальной базы знаний. Но плоды из разрушенной психики после их работы пожинать приходится и восстанавливать то, что восстановлению подлежит очень не очень.
Эдак ведь в любой науке можно сделать. А давайте Менделеева из химии выкинем - элементы-то мы выучили уже кое-как, их опять же кое-как используем, кое-как зная названия, а остальное интуитивно. Или из истории, философии, лингвистики и прочих наук выкинем базу знаний, ведь итак буквы знаем...
Психология слишком молодая наука. Мы, практики, которые работают только благодаря фундаментальным знаниям, возлагаем надежды на академическую школу, которая отстоит свои обязательные рамки и границы, чтобы перестала плодиться эта инфоцыганская нечисть, ведь тень-то они роняют на всю психологическую нишу.
, чтобы комментировать
Ценность теоретических знаний для психолога-практика и психотерапевта неоспорима. Эти знания – некий фундамент, на котором формируется профессионализм (в т.ч. профессиональное мировоззрение, профессиональная позиция) специалиста. При этом безусловно ценными являются и знания из области практико-ориентированных дисциплин, позволяющих теорию (порой кажущуюся студентам абстрактной) преломить в прикладных областях, связать ее с практикой.
Также очень важным является развитие профессиональной рефлексии – способности осознавать и анализировать акты собственного сознания в профессиональной деятельности. Так, внимание профессионала во время консультации сосредоточено не только на чувствовании и понимании состояния клиента, его переживаний, анализе проблемной ситуации, соотнесении этого знания со своим теоретическим багажом и практическим опытом, построении гипотез, выборе психологических инструментов и т.д. Одновременно с этим психолог-профессионал осуществляет рефлексию своего состояния (эмоциональных реакций, физических ощущений, мыслей, ассоциаций и прочих феноменов сознания), а также того, как он воспринимается клиентом, сколь эффективно выстроен контакт и продуктивна коммуникация.
Эта развернувшаяся в сознании совокупность системной рефлексии, саморефлексии и рефлексии социальной – естественное фоновое состояние деятельности консультанта-профессионала (чрезвычайно важное для гармонизации внутреннего хаоса клиента). Плюс к вышесказанному – и наличие здорового чувства ответственности, осознания границ своей компетентности и понимания личных предельных смыслов профессиональной деятельности.
Пожалуй, в этой области (как и в недостатке теоретических знаний) – слабое место инфоцыган от психологии, тех, для которых «быть психологом – быть шаманом».
Относительно дистанции и связи теоретической и практической психологии – их союзе или разобщенности (порой соперничестве и попытках доминирования), то как бы их представители не спорили и недооценивали друг друга, они существуют во взаимодополняющем единстве. Именно в этом единстве сила и суть психологии (и как науки, и как практики).
Что же касается базового психологического образования и профессиональной переподготовки… По моим наблюдениям, выпускники университетов (с хорошей теоретической подготовкой и развитым системным мышлением) порой оказываются посредственными практиками-консультантами. И наоборот, психологи без базового психологического образования, с профессиональной переподготовкой и хорошо развитой мотивацией к саморазвитию, часто очень эффективны в работе с людьми. В этом вопросе нет однозначного ответа.
Мой опыт консультирования и преподавания в университете позволил мне понять, насколько важно у будущих психологов (помимо вооружения их теоретическими знаниями и развития практических навыков) формировать профессиональную позицию специалиста (в т.ч. этическую) – не формальную, а осознанную.
Насколько ценно мотивировать студентов на расширение профессионального кругозора (через познание не только психофизических аспектов сознания, но и философских, культурных аспектов человекознания, через мир литературы и в целом искусства, с их образным и детальным описанием внутреннего и внешнего мира людей и т.д.).
И конечно же – как важно вдохновлять, пробуждать интерес, человеколюбие, повышать ответственность и осознанность у тех людей, кто избрал своей стезей – работу с человеческой душой и с симфонической личностью (по Л.П. Карсавину). Как же здесь обойтись без знания законов и механизмов живого человеческого сознания?!
С учетом того, что человек разумный появился вследствие эволюции около 200 тысяч лет назад (что ничтожно мало по сравнению с историей Земли), то находимся мы в начале пути. И пускай вклад психологии (и теории, и практики) делает этот путь созидательным и максимально долгим.
, чтобы комментировать
Пристрастно, с карандашом в руках, препарируя распечатку этой статьи и комментарии к ней, в очередной раз убеждаюсь как трудно психологам разобраться в сущности философской категории сознания. Читаю в статье -это требует "большой работоспособности и напряжения всех интеллектуальных сил, а окончательное решение этих проблем доступно лишь богам". С облегчением еще раз констатирую для себя - с каким изяществом, не бросая вызов богам, точные и естественные науки упрятали эту проблему в понятие "черный ящик", а наблюдая поведение черных ящиков, построили его обобщенную модель и реализовали ее в том, что называется сегодня искусственным интеллектом, подтверждая тем самым, что понимают что находится внутри. Это ли не торжество научного подхода к решению задачи.
Книга Аполлона Шерозия "Психика, сознание, бессознательное: К обобщенной теории психологии" - моя настольная книга. Подумать только каково название! Автор, свел свой двухтомный философский труд к этой брошюре в 170 страниц, сущность же проблемы и ее решение выразил на последних восьми ее страницах.
В курсе для студентов мех-мата, который следует назвать Философии и Психология Сознания, опираясь на подходы Психологии Установки, он создавал ситуации, в которых, не прибегая к помощи сверхъестественных сил, студенты сами открывали главное свойство сознания - неспособность увидеть и осознать себя, приходили к понятию черного ящика и формулировали предмет и подходы психологии как науки: сознание познает себя изучая носителей сознания. Механизм Психологии Установки скрытый в черном ящике, мы открывали без особого напряжения интеллектуальных сил. Счастье иметь такого учителя и вовремя уберечься от всего, что превратило в проблему развитие психологии.
, чтобы комментировать
Вопрос: с какой реальностью работает практический психолог сознания, конечно интересный. Но еще более интересным является вопрос: с какой реальностью работает теоретический психолог? И, в частности, лично Вы, г-н. Е.В. Субботский, с какой реальностью работаете Вы? В Вашей статье, ответа на этот вопрос нет.
Уважаемы Геннадий Самуилович
Спасибо за Ваш вопрос. Отвечаю. Я работаю с живым сознанием: своим собственным, своих испытуемых, своих воспитуемых, и своих читателей. Вот Вы задали вопрос – это тоже результат моей работы. Определение живого сознания дано в следующих секциях данной статьи: Сущность теоретических представлений о сознании: краткий экскурс, Особенность теоретической психологии сознания по сравнению с другими науками, Теория и практика в работе с живым сознанием сегодня, и Заключение: есть ли будущее у теоретической психологии сознания. Более подробно о моей работе с живым сознанием смотрите в ссылках на мои работы, которые даны в указанных секциях статьи.
Уважаемый Евгений Васильевич, я тоже в своих работах использую понятие «живое сознание», однако, кроме перечисленных Вами авторов, в большей степени опираюсь на концепцию С.Л. Франка (в частности, его работу "Реальность и человек"). Последние 10 лет я занимаюсь методологическими вопросами психологии и считаю, что бесконечный кризис психологи обусловлен в большей степени тем, что теоретики психологии не только не подошли к решению проблемы «человека и его реальности», но и вообще не считают ее существенной. Конечно же, это в первую очередь касается и «трудной проблемы сознания». Моя собственная концепция индивидуального сознания, опубликована в этом году в Ярославском педагогическом вестнике (при желании, можете ознакомиться). Что касается практических психологов (психотерапевтов), то в массе своей они редко придерживаются каких-то конкретных психотерапевтических школ, в основном ими используется некий конгломерат различных техник (часто без особых размышлений об их совместимости).
Кстати, уверен, что у теоретической психологии сознания будущее есть!
, чтобы комментировать
Лев Арутюнович, психологам безусловно «трудно разобраться в сущности философской категории сознания». В первую очередь, в силу того что философия не является основным предметом их профессионального изучения и деятельности. А также потому, что «главное свойство сознания – неспособность увидеть и осознать себя» (об этом студенты узнают в начале обучения в курсе «Общей психологии»).
Мы осознаем не свое сознание как таковое, а совокупность всего, что открывается нам благодаря работе и возможностям сознания (прежде всего – наш внутренний мир (физический и психический) и мир внешний, который внутренне преломляется в нашем сознании).
Нам как носителям сознания доступно исследование субъективного содержания, проявлений своего сознания и опосредованно – сознания других людей. Этим занимаются в психологии и теоретики, и практики (используя разные подходы и инструменты, с учетом профессиональных целей – исследуя психические процессы, феномены сознания и т.д.).
И конечно же, каждый из заинтересованных (в зависимости от вида профессиональной деятельности, особенностей личности и призмы интеллекта) увидит в обсуждении проблемы сознания что-то свое. Психолог, философ, физик, математик, кибернетик, нейроученый (список можно продолжить)…
(Да и ненаучная сфера – писатель, поэт, художник – тоже занимаются описанием феноменов сознания (творчески исследуя и представляя его через канву переживаний, мыслей и поведения персонажей, а также с помощью образов и символов)).
У каждого исследователя своя призма взгляда (никто не претендует на исключительную правоту). Но каждый вносит свое знание, объективный результат и субъективную интерпретацию, увеличивая область познанного для себя и для других (с учетом того, что непознанное бесконечно).
В этом контексте изучение сознания как такового носителями сознания служит важной эволюционной цели – развитию. «Черный ящик» (как тайна, как непознанное, как возможность) манит и манит, напрягая умы, сосредоточивая усилия, провоцируя открытия, способствуя созданию нового (искусственного интеллекта и т.д.) и обозначению границ его применения.
Так и живем, устремляясь в будущее, помня о прошлом и погружаясь в настоящее (и всё – благодаря своему сознанию).
Статья Евгения Васильевича очень многогранна, с разными пластами, затрагивающими важные насущные вопросы профессиональной жизни: и теоретические, и практические. (Мне тоже понадобился карандаш в руке при ее перечитывании, правда, уже после написания своего первого комментария).
Каждый читающий статью найдет в ней что-то «свое», воспринимая содержание через призму своей деятельности, личного опыта, знаний, особенностей интеллекта, проецируя при этом свои интересы, ценности, актуальные потребности, смыслы.
Эта статья пробуждает дискуссию (автор и не скрывает этого). Но ведь дискуссия не холивар, а значит, способствует поиску истины, обмену мнениями и общению разных специалистов сферы психологии – и теоретиков, и практиков.
С благодарностью к Евгению Васильевичу (!), Льву Арутюновичу и всем комментирующим,
Алла Николаевна.
, чтобы комментировать
Отождествление психологической практики (психотерапия и психологическое консультирование) и практической/прикладной психологии сознания представляется мне принципиально неверным.
Спасибо, Виктор Ефимович за ваше веское слово.
Уважаемый Виктор Ефимович
Согласен с Вами. Но в статье и нет отождествления практической прикладной психологии и психотерапии, вот цитата из первого абзаца секции «С какой реальностью работает практический психолог сознания: достоинства и опасности психотерапии»: «Но эти практические приложения психологии были в контакте с теорией и экспериментом в рамках культурно-исторического подхода к сознанию, и в них отсутствовал элемент власти над живым сознанием человека, характерный для психотерапии». Но между практической психологией и психотерапией есть сходство, которое заключается в том, что практическая прикладная психология и психотерапия направлены на использование законов работы психики для решения практических запросов индивида и общества.
, чтобы комментировать
Теоретическая и практическая психология сознания, как две ветви одного дерева, "психологического дерева". Может с этой точки зрения надо рассматривать данный феномен.
, чтобы комментировать
Потребность в теории возникает, когда накоплено достаточно эмпирического опыта для классификации, обобщения и выявления закономерностей свойств объекта или явления. Это инструмент кодирования для передачи знания в компактном, поддающемся расшифровке и проецированию на реальность виде. История науки показывает, что каждая область деятельности, обладающая сегодня проверенной практикой теорией, создает теорию развивая для этого специфический язык и первичную, простейшую, но емкую по смыслу модель своего объекта. Собственно математика так и появилась. Удивительный факт - достижение математики, которое лежит в основе сегодняшней реализации языка, алгоритмов и технических средств искусственного интеллекта, было сформулировано как набор всего нескольких логических операций еще в середине позапрошлого века. Психология в то время только начинала осознавать и создавать систему "мер и весов" для адекватного описания своего объекта. Логика алгебры Буля (Джордж Буль, George Boole) до сих пор не востребована психологией, хотя на ее основе создана действующая модель ее объекта. Системы мер и весов нет до сих пор.
Трагическое для психологии событие, произошло пол века назад, когда та же математика определила весь словесный инструментарий психологии как набор нечетких (лингвистических) переменных, а саму психологию отнесла к области науки, оперирующей нечеткими множествами (Лотфи Заде, Lotfi A. Zadeh). Трагедия в том, что это до сих пор не осознано теоретиками психологии.
Популяризаторы математики все чаще объясняют ее возникновение потребностью несовершенного сознания стать совершенным - преодолеть иллюзии, которые оно создает пытаясь создать картину Мира. Нужно пожелать психологии окончательно решить задачу преодоления своих иллюзий и развить четкий инструментарий для теории. Упомянутый мною в предыдущем комментарии Аполлон Шерозия предложил для этого "Принцип Дополнительности сознания и бессознательного психического". Для этой цели, для бессознательного, в совершенстве подошел "механизм" предложенный Димитрием Узнадзе в его Психологии Установки.
Тот факт, что несмотря на старания Александра Асмолова, теория психологии до сих пор боится (придется переписывать психологию) признавать Психологию Установки (уже как теорию Узнадзе - Шерозия, первичную модель которой можно объяснить "на пальцах"), не трагедия, а свершившаяся в психологии катастрофа, которая длится уже пол века.
, чтобы комментировать
Статья не просто блестящая по широте эрудиции, глубине анализа актуальнейших проблем нашей науки. Меня поразило предвидение еще не вставших проблем этим специалистом широкого профиля.
, чтобы комментировать
Статья вызвала множество ассоциаций. В первую очередь с эссе И.М.Сеченова «Рефлексы головного мозга», которое автор (что делает ему честь) завершил славами: «Наконец я должен сознаться, что строил все эти гипотезы, не будучи почти вовсе знаком с психологической литературой» (1953:116). А начал автор с того, что: «Для нас, как для физиологов, достаточно и того, что мозг есть орган души…» (1953:32). Еще более красноречиво звучит фраза автора: «Явно, что исходным материалом для разработки психических фактов должны служить, как простейшие, психические проявления у животных, а не у человека» (1953:120). Позднее, воодушевленный успехом этого эссе, автор издает новый труд, до настоящего времени изучаемый будущими академическими психологами, правда - неизвестно для чего. В этой работе, претенциозно озаглавленной «Кому и как разрабатывать психологию?», И.М.Сеченов наставляет будущие поколения психологов: «Сопоставление же психических явлений с нервными процессами его собственного тела кладет основу аналитической психологии, так как телесные нервные деятельности до известной степени уже расчленены. Таким образом, оказывается, что психологом-аналитиком может быть только физиолог...» (1908:11).
Был бы искренне благодарен автору – уважаемому профессору Евгению Васильевичу Субботскому, если бы он прокомментировал свой тезис: «…чтобы работать с живым сознанием, надо понимать, каковы психологические механизмы работы живого сознания», и подробно раскрыл или хотя бы перечислил - какие механизмы он имеет в виду?
В остальном же полностью согласен с профессором В.Е.Каганом: «Отождествление психологической практики (психотерапия и психологическое консультирование) и практической/прикладной психологии сознания представляется мне принципиально неверным».
Уважаемый Михаил Михайлович, спасибо за ваш вопрос. Отвечаю:
В статье законы живого сознания упомянуты в конце секции «Сущность теоретических представлений о сознании: краткий экскурс». Вот цитата: «В отличие от объективированного сознания, оформленного в речь, логическое мышление или нормы поведения, живое сознание работает по законам магии, таким как партиципация (отождествление явлений, логически не связанных друг с другом), ассоциация по сходству и контакту или прямое воздействия сознания на реальность» [12; 13]. Эти законы установлены в антропологических исследованиях магического мышления таким авторами как Эдвард Барнет Тэйлор (Первобытная культура), Джеймс Джордж Фрезер (Золотая ветвь), Люсьен Леви-Брюль (Первобытное мышление), Бронислав Малиновский (Коралловые сады и их магия) и многими другими. Психологические экспериментальные исследования магического мышления у современных людей проведены и обобщены лишь в последние десятилетия, (ссылки даны в цитате), но наиболее подробно см. в моей книге Subbotsky, E. «Magic and the mind: Mechanisms, Functions and Development of Magical Thinking and Behaviour”, New York & London: Oxford University Press, 2010. Я упомянул лишь некоторые законы живого сознания, но их больше, и работа с ними очень сложна, так как они, в отличие от законов природы и логики, лишь вероятностно предсказуемы. В качестве литературного примера анализа работы живого сознания можно привести роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
По второму вопросу: В статье нет отождествления практической прикладной психологии и психотерапии о котором говорит уважаемый В.Е.Каган, вот цитата из первого абзаца секции «С какой реальностью работает практический психолог сознания: достоинства и опасности психотерапии»: «Но эти практические приложения психологии были в контакте с теорией и экспериментом в рамках культурно-исторического подхода к сознанию, и в них отсутствовал элемент власти над живым сознанием человека, характерный для психотерапии». Но между практической/прикладной психологией и психотерапией есть сходство, которое заключается в том, что практическая прикладная психология и психотерапия направлены на использование законов работы психики для решения практических запросов индивида и общества.
, чтобы комментировать
Напрашиваются некоторые выводы по этой важной проблеме:
1. Сознание - идеальная реальность, носителем которой является человек в качестве субъекта познания, общения (социального взаимодействия) и профессиональной деятельности. Эта реальность характеризует его индивидуальность.
2. Идеальная реальность объективируется в форме знаний - потенциала развития человека и профессиональной квалификации.
3. Психологические знания интегрируются во-первых - в теоретических концепциях, во-вторых - в методах научных и прикладных исследований, в-третьих - в технологиях практического применения не только этих знаний при решении конкретных проблем человека, возникающих в конкретных сферах его социального взаимодействия.
4. Однако, этого не достаточно для приобретения специалистом профессионального мастерства "практического психолога".
5. Для этого необходима стажерская практика в среде сложившихся профессионалов, где может обнаружиться профессиональная непригодность специалиста по индивидуальным особенностям личности, включая и этические.
6. "Магия" предполагает трансцендентальную эвристику в реализации апперцептивного багажа когнитивных ассоциаций личности, возникших в опыте социального взаимодействия.
Есть и другие! Спасибо коллегам за их пробуждение!
, чтобы комментировать
Интересный анализ, особенно цепляет мысль о "живой субъективности" как основе магического мышления. Согласен: без теории мы рискуем превратиться в "технарей", не видящих связей между культурным контекстом и индивидуальными травмами.
, чтобы комментировать