
9 июля 2021 года — юбилей у Александра Александровича Мелик-Пашаева, доктора психологических наук, руководителя группы «Психологические проблемы художественного развития», главного научного сотрудника лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО, члена Союза художников РФ, главного редактора журнала «Искусство в школе».
В рамках проекта ПИ РАО «Российская психологическая наука: люди и идеи» Александр Александрович дал интервью — «Иностранец в психологии». Интервью подготовила и провела Наиля Гумеровна Кондратюк, старший научный сотрудник ПИ РАО.
Н.К.: Александр Александрович, Ваш путь в науку, в психологию не совсем обычный. В 1972-м году в 31 год, будучи профессиональным художником, Вы поступили в аспирантуру Института общей и педагогической психологии АПН (сейчас — Психологический институт РАО), то есть в институт Вы пришли в достаточно уже зрелом возрасте. И в последующем всю свою научную жизнь провели в этом институте.
А.М.-П.: Да, хотя вначале я предполагал, что это будет временный эпизод в жизни. Я до этого не думал ни о какой научной деятельности.
Н.К.: Чем же тогда был обусловлен выбор аспирантуры Психологического института? Расскажите, как это было? Что к этому привело?
А.М.-П.: Это довольно любопытно… Я в свободной форме буду вспоминать. Я окончил художественную школу, потом постановочный факультет школы студии МХАТ. Затем я работал какое-то время (с перерывом на не очень серьёзную, но все-таки военную службу) в системе Большого театра и еще некоторое время в музее Большого театра. У меня тогда было множество интересов: в области культуры, в области собственной внутренней жизни, разных духовных учений и практик. Меня совершенно не интересовало какое-либо занятие внешнее. Я понимал, что надо где-то работать, но там, где достаточно свободного времени. И когда в том самом месте, где я последние годы работал, стали наводить формальную дисциплину (время от времени бывали эти спазмы везде) и стали требовать, чтобы я там сидел независимо от того, есть дело или нет, мне это сильно не понравилось. Я пожаловался своим новым друзьям из Психологического института.
Н.К.: А кто были Ваши новые друзья из Психологического института?
А.М.-П.: Мои новые друзья были Тамара Александровна Флоренская и — менее известное имя, но совершенно поразительный человек — Галина Александровна Шибаровская. Она была старшей подругой Тамары и такой ... утешительницей и наставницей и ее, и всех молодых женщин из лаборатории Инны Владимировны Равич-Щербо. Но я с ними познакомился не на почве психологии, а на почве поездок в старые русские города. Как-то я им сказал, что сидеть в музее Большого — жалко время терять; можно читать, конечно, но все-таки… И Тамара, она в молодости была особенно решительна и категорична, сказала: «А чего ты там сидишь? Давай, поступай к нам в Психологический институт, в аспирантуру!» Я думал, что это шутка. У меня было впечатление, что нужно в трёх поколениях быть психологом и лет тридцать готовиться. Я говорю: «Как это — поступай? Это же невозможно!» Она: «Почему невозможно? Ты что думаешь (я не знаю насколько это для протокола), психология — это такая прямо наука-наука? В психологии никто ничего не знает (это было сказано, конечно, не в прямом смысле: не то, что никто не знает, какие пороги восприятия, например, существуют, а про глубинные вопросы внутренней жизни человека). Так что, если есть идея интересная, приходи!»
Я тогда как раз стал интересоваться детским изобразительным искусством. Был один ребёнок, близкий по жизни, с которого всё и началось. Как человек, причастный к живописи, я заметил то, что, как потом выяснил, художники заметили лет за 100 до меня: ребёнок, который, в общем-то, ничего не должен уметь и мочь, создает образы, которые вызывают определенную, в хорошем смысле, зависть художников. Что-то главное ребёнок может делать в искусстве! Делает неосознанно, непроизвольно, неустойчиво, сегодня это есть, а завтра может исчезнуть, но, тем не менее, факт художественности на лицо. Что это за загадка? Вот с этого начался мой интерес к психологии. Я придумал себе тему, связанную с цветом в детском изобразительном искусстве. Уволился из музея и пошёл, с непонятной уверенностью, что что-то из этого получится, к Вадиму Андреевичу Крутецкому — известный психолог, был заместителем Анатолия Александровича Смирнова, директора Психологического института. В.А. Крутецкий занимался математическими способностями и руководил лабораторией психологии способностей. Тема Вадиму Андреевичу понравилась. Правда, он посоветовал мне прийти через год, потому что был уверен, что я провалюсь на экзаменах ввиду полной неподготовленности и во второй раз не приду. А его тема заинтересовала, и он не хотел ее терять. Но я решил, что не стоит ждать, пошёл на экзамены, и всё получилось.
Я В.А.Крутецкому очень благодарен. Он давал хорошие советы, прекрасно понимал, как надо защищать диссертации, на чем сделать акцент, что придержать на будущее и т.д., но в специфику изобразительного искусства не вмешивался, давал в этом свободу.
Н.К.: А какие экзамены Вы сдавали при поступлении в аспирантуру?
А.М.-П.: Психологию конечно. Целых три месяца я готовился! (смеется). Еще историю партии и иностранный язык. По совести говоря, я не должен был поступить. Та же самая Тамара Флоренская потом рассказывала, что они с И.В. Равич-Щербо, которая тогда заведовала аспирантурой, вместе были в какой-то поездке, упомянули обо мне, и Инна Владимировна сказала: «Ну, нет. Он не поступит. У него же реферат не психологический». А Тамара говорит: «Спорим, поступит!» Не знаю, поспорили они или нет, но дальше была цепочка очень удачных эпизодов. Экзамен по психологии был в Большой аудитории, нас, экзаменующихся, было несколько человек в этом огромном помещении. Причем из университета (МГУ им. Ломоносова) были сверхподготовленные люди. В комиссии были две или три дамы и старик, которого я как-то интуитивно боялся, думал, что он точно что-нибудь спросит. Я ведь не знал в институте никого, кроме Т.А. Флоренской, Г.А. Шибаровской и В.А. Крутецкого. А старик-то был директор А.А. Смирнов — не зря я боялся. Но на мое счастье, когда меня вызвали отвечать, он ушел: в этот день хоронили П.А. Шеварева, крупного психолога и друга Смирнова, и Анатолий Александрович пошел стоять в почетном карауле. Естественно, он не задал мне вопросов, а с дамами мы как-то поняли друг друга, и получил я пятерку. Если бы я не получил 5, никто бы меня не принял. Потом мне рассказывали, когда осенью А.А. Смирнов отчитывался перед коллективом о работе института, об экзаменах; сказал, что приняли того, того, того…. Потом помолчал и сказал: «А ещё приняли одного учителя рисования». Опять помолчал и добавил: «Ничего не поделаешь, сдал на отлично все экзамены». Почему он решил, что я учитель рисования, не знаю.
А.А. Смирнов, видимо, не любил таких вот «туристов», которые потом не занимаются психологией. Впоследствии он ко мне тепло относился, иногда даже как-то по-отечески поглядывал. По работе мы практически не общались, но тогда две лаборатории «сидели» за двумя рядами столов в одной небольшой комнате: лаборатория способностей («способники») и лаборатория памяти («памятники»). Второй из них руководил Анатолий Александрович. Но поначалу настороженность ко мне у него была.
Н.К.: Александр Александрович, Вы из театральной среды (я бы сказала, из «сердца» театральной среды) пришли в научную, психологическую? Какие у Вас были впечатления? Чувствовалась ли разница?
А.:М.-П. Действительно, я пришел из совсем другого мира, попав из театральной среды в научную. Придя в институт, я стал ходить на ученые советы. И что меня удивило (сейчас это не совсем так, конечно, время изменилось) — эти старые учёные по вопросам науки так яростно спорят друг с другом, что, по моему впечатлению, они должны поссориться на всю жизнь. Но нет — в перерыве выходят в фойе, курят, обнимаются, хихикают. Я понял, что «борьба идей» совершенно не переносилась на личности. Они действительно ревностно служили науке и в этом были бескомпромиссны друг к другу, что, однако, не омрачало никак их личные отношения. Театральная среда иная. Там трудновато сказать кому-то, что сегодня он плохо спел или ошибочно трактовал произведение, и остаться для него таким же другом, как вчера. Возможно, бывает и такое. Конечно, и там много людей, которые всерьез служат искусству. Но мне кажется, что в целом атмосфера все же другая.
А тут была ощутима эта атмосфера служения общему делу, которое все считают по-настоящему важным, при безусловно уважительном отношении друг к другу, и не только к равным по званию или возрасту, а ко всем: от гардеробщицы до академика. Это было. С тех пор столько лет прошло! Уже тех людей давно нет, а те, кто их застал, уже старые, и атмосфера, конечно, совсем другая, но все-таки этот особый «воздух» института еще узнаваем, держится до сих пор. Как зайдёшь куда-нибудь в другое место, вроде там все нормально, но приходишь сюда и видишь: нет, воздух другой пока ещё.
Н.К.: Как Вы считаете, почему институт все еще сохраняет эту атмосферу?
А.М.-П.: Вопрос отчасти мистический: то, что называют атмосферой, или аурой, я считаю, существует. Эта атмосфера создана определенными людьми, создателями института. И тот замысел, который заложен вначале, он не сразу угасает. Тем более, появляются люди, которые это поддерживают. Люди, понимающие не только конъюнктуру событий, хотя с этим приходится считаться, но и научные, и этические, и гуманитарные стороны жизни. Передаётся это всё. Даже если признать, что всё потихонечку теряется, но оно же теряется не сразу. Есть преемственность определённая. Кто в то время общался в институте с теми людьми, определенную планку ценностей для себя тоже удерживает.
Н.К.: Александр Александрович, Вы человек, который реализовался профессионально в двух сферах: как художник (в 2012 году была ваша очередная выставка) и как ученый, психолог (в 1994 году была защита докторской диссертации «Психологические основы способностей к художественному творчеству»). На Ваш взгляд, что общего у искусства и науки? И что их различает?
А.М.-П.: Когда я поступал в аспирантуру, кто-то из старших товарищей удивился, зачем, собственно, я меняю такую прекрасную профессию художника на другую? Я тогда ответил самоуверенно, что думаю не менять, а совмещать. Какое-то время это получалось. Даже помогало одно другому, как мне кажется. Когда ты занимаешься не вообще психологией, а определённой областью психологии, психологией творчества, в частности, художественного творчества, то незаменимую помощь оказывает собственный опыт. Он может быть большой, он может быть скромный. Но сам опыт порождения и создания художественного образа должен быть. И если этого нет, то учёный может знать в 1000 раз больше, чем я, и быть очень умным человеком, но есть вещи, которые он не улавливает и не учитывает — не из недостатка знаний, а именно из-за отсутствия собственного невербализуемого опыта. Так что приход «от искусства» дает преимущество. С другой стороны, конечно, взрослому человеку перейти в другую систему мышления, терминологии, доказательств — довольно трудно. Я, собственно, до сих пор в какой-то степени чувствую себя «иностранцем», которого понимают, даже принимают, но специфически психологический подход к явлениям мне дается с трудом. Есть и плюс, и минус в том, что ты пришёл из совершенно другой области.
Поначалу одно другому помогало. Понимание сути эстетического переживания укрепляло меня в творчестве, а на практике я пытался реализовать и подтвердить это свое понимание. Со временем это изменилось. Не случайно вся живопись моя очень старая.
Графические вещи я продолжаю делать и сейчас, не могу сказать, что бросил. Но на первый план вышла по множеству причин исследовательская работа в области творчества. Я вообще не знаю примеров того, чтобы человек полноценно и равно реализовывался в науке и в искусстве. В наше время, во всяком случае. Времена Леонардо да Винчи не будем вспоминать, это даже невозможно сравнивать, не только ввиду величия таких людей, но и просто по культурно-исторической ситуации.
В наше время был Николай Николаевич Волков — очень серьёзный психолог и очень достойный художник-акварелист. Я не знаю, одновременно ли это у него происходило, или он сперва поработал в нашем институте, потом его из-за интриг выгнали, и тогда он восстановил свои художественные способности. Не знаю. Всё равно, это очень редкие исключения. Способности у человека могут быть и в том, и в другом, но в полной мере их реализовывать трудно.
А насчёт того, что общее у искусства и науки... Я думаю, что общее лежит очень глубоко. Это как раз связано с новой темой, которая меня интересует в психологии творчества. Понимаете, у человека есть опыт переживания своего внутреннего единства с какой-то областью жизни: он угадывает, что может и должен раскрыть что-то неявное, что тайнописью «записано» в окружающем мире. Это может быть неожиданно приоткрывающаяся тебе ценность знакомых явлений, которую ты воспринимаешь и хочешь сохранить и воплотить. Сохранить для себя и показать другим. Мир, в котором мы живём, который общий для нас для всех, вдруг тебе открывается твоей, именно тебе открывающейся ценностной гранью. Тогда возникает художественный образ. Или же человек угадывает не столько скрытую ценность, сколько скрытую в самой жизни некую объективно существующую сторону явлений, которая не на виду, но он чувствует, что она есть. Тогда он в это углубляется, это исследует и идет по пути научного открытия. То есть мы видим расхождение этих двух путей: ценностный образ мира или выявление неявных внутренних закономерностей. А в основе того и другого лежит общее переживание приоткрывающейся тайны жизни. Это описывается в автобиографических материалах очень многих выдающихся людей, причём из разных областей: искусства, науки, техники и т.д. Корень здесь общий: когда ты и «что-то другое» — одно, и ты должен это познать, выявить, и в этом ты реализуешь свое предназначение. Переживание или предугадывание некоторой творческой возможности — оно является общим. А направление творчества очень сильно расходится потом; еще раз скажу: как выявление ценностно насыщенного образа мира или как выявление скрытых фактов и закономерностей.
Н.К.: Александр Александрович, когда Вы поняли, что уже не «иностранец» в психологии, в науке, а «местный», что уже ассимилировались? Как происходило формирование Ваших научных интересов и представлений?
А.М.-П.: Иностранец с видом на жительство! Вы знаете, поскольку у меня путь не совсем обычный, то и здесь тоже не совсем обычно происходило. Обычно человек изучает психологию, а потом в ней находит что-то, чем он хочет заниматься, а у меня наоборот получилось. Была интересующая меня тема, кроме которой я ничего не знал. И знакомство с психологией, существовавшими тогда теориями, направлениями, оно нанизывалось именно на эту интересовавшую меня тему выразительности цвета в детском творчестве, потом выразительности в целом и т.д. Придя в лабораторию психологии способностей, естественно, я попал в определенное направление, созданное Борисом Михайловичем Тепловым, которого я уже не застал. Мой заведующий и другие сотрудники были последователями этого направления. Считалось, что «иначе и нельзя». Постепенно я начал самостоятельно разбираться в тепловской теории способностей как совокупности различных компонентов, нужных для освоения той или другой деятельности. Интересы расширялись на более общие, центральные проблемы творчества, и не только изобразительного. При всем величайшем уважении к самому Б.М. Теплову и к тому, что он сделал для науки, я понял, что это направление — не совсем то, что меня интересует. Что творческий аспект способностей иной совершенно, он не покрывается усвоением наличных форм какой-либо деятельности. Так стали появляться уже самостоятельные дерзкие мысли. Если сейчас ретроспективно посмотреть, то на формирование моих научных представлений и взглядов оказала влияние понимающая психология В. Дильтея, персоналистские направления, начиная с В. Штерна, гуманистическая психология. Но самая большая поддержка была от русских мыслителей и ученых. Очень интересный момент! Больше всего давали не «патентованные» психологи, не психологи по диплому, а люди, которые числятся по несколько другому ведомству. Может быть, именно в силу этого гуманитарные аспекты психологии они захватывали очень глубоко. Я имею в виду, например, А.А. Ухтомского, который, казалось бы, физиолог в основном, но он и мыслитель, и психолог, и богослов в определенной степени. Концепция доминанты А.А. Ухтомского очень много дает для понимания творчества. Хотя начиналась она с исследования рефлексов лягушек, а потом расширялась до колоссальных горизонтов человеческого творчества. Я имею в виду и М.М. Бахтина, который то ли филолог, то ли культуролог, то ли философ, то ли литературовед, но никто из психологов более тонко о творчестве, мне кажется, не писал, чем Михаил Михайлович Бахтин. Отец Павел Флоренский – он и всесторонний ученый, богослов, священнослужитель, искусствовед, и «естественник», и лингвист. Причем люди того поколения о психологии говорили, как я заметил, как раз в отрицательном ключе, понимая под этим естественно-научное изучение психики как объективно детерминированной совокупности отдельных процессов. Они как бы отделяли себя от такой психологии, хотя, с моей точки зрения, они как раз были очень большими психологами. Был такой филолог и мыслитель Г.О. Винокур, который писал о биографии человека как о его собственном творчестве. Биография не как описание внешней последовательности событий в жизни, а как создание человеком биографии своей личности через творческие поступки — отклики на значимые переживания. Я нашёл для себя очень большую поддержку в работах В.В. Зеньковского. Сейчас он больше известен как священнослужитель, как богослов, христианский педагог, а начинал он как очень серьёзный психолог. У него есть работа, еще из ранних, которая называется «Проблема психической причинности». В ней он, не говоря таких слов как творчество, одаренность, — тогда это не в моде было — с моей точки зрения, очень глубоко указывает на источник человеческого творчества, который определяет как внутреннюю активность души, или внутреннюю энергию души, исходно присущую человеку. Мы можем этого в детстве, да и позже не осознавать в себе. Нам кажется, что мы реагируем и приспосабливаемся ко всей массе внешних факторов, которые на нас обрушиваются, а на самом деле внутренняя активность души, свойственная каждому человеку от рождения, как какой-то навигатор, прокладывает свою дорогу, телеологически, избирательно преобразуя всё то, что на нас валится. Это, кстати, можно связать с учением о доминанте А.А. Ухтомского. В какой-то степени это похоже и на учение об установке Д.Н. Узнадзе, которое тоже мне кажется философски глубоким, хотя тут нужны уточнения. Вот это, наверное, круг основополагающих идей, которые оказывались для меня близкими, «своими».
Тут я снова вспоминаю про свой «особый путь». Мне нужна была помощь в осознании, систематизации, включении в психологический контекст тех мыслей, которые появились не в результате сугубо психологических идей. Нужен был язык, нужны были аргументы, мнение и опыт других людей, но не в том смысле, что из этого изучения психологического материала потом рождается какая-то твоя собственная идея. Это не лучше и не хуже, это, в самом деле, просто другой путь.
Н.К.: Александр Александрович до начала интервью мы с Вами договорились, что сегодня будем стараться говорить исключительно о творчестве. Интерес к творчеству у Вас был всегда? Как была выбрана художественная школа? Кто повлиял на Ваш выбор?
А.М.-П.: Как Вам сказать? Мой отец был выдающийся музыкант (Александр Шамильевич Мелик-Пашаев — дирижер Большого театра, композитор, народный артист СССР), мама была балерина Большого театра (Минна Соломоновна Шмелькина)... Так что вроде бы с детства…
Вы знаете, немножко в сторону. Когда отца уже не было, и мы с матерью путешествовали по северным рекам, перед шлюзом стояли ночью, смотрели на жизнь вокруг: кто-то выходит, зажигает фонари, перекликаются, и вдруг она с удивлением говорит, что ей открывается такая огромная жизнь, ничего общего не имеющая с Большим театром, со спектаклями, с искусством, с тем, что ей в течение всей жизни и мне с детства казалось центром мироздания. Главные события в жизни были — Большой театр, опера, балет, то, что происходит в искусстве. А на самом деле вокруг бесконечный мир и каждая его область — это только маленькая грань бытия.
Возвращаюсь к детству. Музыкой я не занимался, но слушал ее всегда. Рисовать я начал рано, как почти все дети. Родители жили театральной жизнью, поздно ложились спать, а утром я вскакивал и начинал их будить. И мама мне устроила столик отдельный, у меня были красивые, толстые цветные карандаши того времени, они очень ярких, сочных цветов были, и листы бумаги. Я час или больше сидел за этим столиком, рисовал и давал им возможность поспать. Рисовал я тогда (это был годы примерно 1945–1946, послевоенные годы, победа, война) маршалов наших, которых я всех знал по имени-отчеству, и у меня было свое представление о том, как они выглядят. Пытался создать образ любимого вождя. Я даже немножко помню, как это было. Я начинал рисовать с усов. Рисовал этот ус, и мне хотелось, чтобы он был такой какой-то гармоничный и величественный; не получалось, бросал лист на пол, брал следующий лист. Утром подбирали 20–30 вариантов этих усов, которые так меня и не могли удовлетворить. Потом я стал рисовать персонажей оперных спектаклей по рассказам отца. Потом меня стали брать в театр. И — встреча с Пушкиным. Научился я читать рано, лет в пять уже читал самостоятельно. Я не помню первый букварь, но помню «Руслана и Людмилу», «Песнь о Вещем Олеге». Рисовал Руслана и Черномора, бой Руслана с Головой, встречу Олега с волхвом и т.п. И настал момент, когда родители решили меня в кружок отдать при Доме архитектора. Туда года два меня водили. Была там художница, как я понимаю, не имевшая возможности работать в искусстве в то время, потому что направление ее было не совсем соцреализм, к тому же ее звали Роза Моисеевна Рабинович. Она нашла себе нишу в детском кружке. Она была сестрой очень известного театрального художника, который, видимо, тоже был уже не в моде и не того направления. В общем, она тихо занималась детьми, хотя была одарена как живописец. И, не будучи профессиональным педагогом, она понимала, как с ребёнком общаться, понимала чудо возникновения цветного образа. В этом кружке было очень хорошо. Видимо, по ее совету родители меня стали пристраивать в художественную школу. Сейчас много художественных школ, а в то время «моя» считалась главной, она и была самой лучшей – Центральная средняя художественная школа при институте им. В.И. Сурикова. Вот туда я поступил. Было для меня, как и для многих в аналогичных ситуациях, довольно удивительно: в обычной школе я был великий художник, а там вроде все такие, а может и лучше. Как-то к этому надо было привыкнуть. В этой школе я учился семь лет. Уроки по специальности в день были по 3–4 часа. Кажется, был даже один день, когда все 6 часов рисовали и писали. Как мы успевали еще физику и все прочее проходить, я не знаю. Это было серьёзное профессиональное обучение. Учился я скорее плохо, чем хорошо, и довольно не прилежно, так я бы сказал. Почему-то было скучно, особенно после этого кружка, где можно было предаваться цветовым фантазиями. Но, безусловно, школа много дала. Потом, когда ты обретаешь свободу, оказывается, что некая основа нужна. После окончания школы все считали что, раз ты сын артистов, то мечтаешь стать театральным художником. У меня совершенно не было таких мыслей. Я пытался поступить совсем в другие места. Ничего из этого не получилось. В итоге я попал-таки в театральный институт при Художественном театре. И это было счастье и, что называется, нечаянная радость: я встретил двух людей, которых считаю великими. Они не «великие» в какой-то конкретной области, но они именно великие люди. Они дали представления о духовной жизни, об этике, о том, как человек должен попытаться осмыслить свою жизнь. Один — Александр Сергеевич Поль, который обладал поразительной способностью, рассказывая о явлениях культуры, переносить тебя в другое время, в другую среду, и ты чувствовал, что эти рыцари, или люди XIX века, или древние греки в аудитории рядом с нами, и мы можем понимать их, даже не прочитав всё, что про них сказали ученые. Это был дар удивительный. Другой был Вадим Васильевич Шверубович, декан, сын знаменитого артиста Василия Ивановича Качалова. Это был такой рыцарь чести и совести, который огромный след оставлял своим благородством, смелостью необычайной и в тоже время скромностью и уважением к человеку. Ну и другие были очень хорошие, серьёзные педагоги.
Но настоящим театральным работником я не стал, я больше любил живопись. Правда, я несколько лет поработал в мастерских и в музее Большого театра, вступил в соответствующую секцию Союза художников. По-настоящему, всерьёз я работал в театре один раз: в Ереванской опере делал спектакль. Для первого раза получилось, кажется, не так уж и плохо. Думал, что, может быть, буду продолжать, но поскольку никто особенно не звал, а я сам не особенно хотел, на этом всё и закончилось. Одновременно появились мои психологические подруги, которые навели на мысль пойти по другой дороге.
Н.К.: Александр Александрович, Вы сказали, что музыке не учились. Как Вы считаете, выбор не давать Вам музыкальное образование был сделан Александром Шамильевичем осознанно?
А.М.-П.: Понимаете, люди искусства, профессионалы, особенно такого высокого уровня, они ведь чаще всего не верят в развитие. Они думают, что «с чем родился, с тем и пригодился», или есть этот дар или его нет, и поскольку отец у меня маленького не замечал музыкальности, с его стороны никакого импульса не было. А с моей стороны...Как я теперь думаю, наверное, я понимал, что у меня не видят этой музыкальности. Ведь если при ребенке сказать, как любили говорить про рисунки своих детей родители: «Он у меня не Репин», или что-то подобное... Ребенок же слушает. Он не знает, кто такой Репин. Но раз «не Репин», то и ладно. И не надо. Может, что-то подобное было и у меня. Во всяком случае, я никогда не просил и не хотел поучиться. Если бы я хотел — отец меня очень любил, он бы нашёл время со мной заниматься. И даже я помню, он мне как-то сказал, что жалеть будешь потом, что не учишься. Но так мягко, мимоходом. Он совершенно не был педагогом по призванию. То есть со своими артистами он как раз был дирижером-педагогом. А вот так, чтобы кого-то начинающего взять и учить, — нет, он отказывался от этого, никогда не преподавал, ни в консерватории, нигде.
Потом я отчасти жалел и жалею, но не в том смысле, что не стал музыкантом. Поскольку занимаешься художественным творчеством вообще, а не только изобразительным, касаешься и музыкального творчества. И тут хорошо бы иметь оснащение, которое позволяло бы более уверенно и конкретно о музыкальном творечестве говорить. Ну а любовь к музыке у меня есть. Понимание, уж не знаю в какой степени, но какое-то есть. Понимание того блага, которое музыка даёт, — есть. Я очень много слушал записи, вокальные особенно. Вместе с отцом мы много слушали. Я слушал больше, чем отец, потому что у меня на это время было. Не имел сил противиться соблазну и начинал покрикивать вместе с итальянскими певцами, которых очень любил, хотя понимал, что соседям это не очень нравится. Но не мог утерпеть.
Н.К.: Это рояль Александра Шамильевича?
А.М.-П.: Да, это рояль отцовский. Он чудовищно расстроен, даже для моего слуха. Но настраивать нет сейчас необходимости, никто не играет, и он снова придет в негодность.
Н.К.: Александр Александрович, как Вы считаете, что у Вас общего с Александром Шамильевичем?
А.М.-П.: Что общего с отцом? Есть же такие душевные струны, которые словами не определишь. А так, если во внешнем плане, может быть вежливость, склонность к юмору, интерес к литературе. Это чисто внешние черты. А в отношении к людям… Не знаю. Он был, с одной стороны, в силу своей биографии, не столь благополучной, обеспеченной и безмятежной в детстве, как у меня (хотя у него тоже ничего слишком трудного не происходило), больше приспособлен, чтобы в реальных условиях реализовывать свои творческие потребности, свои интересы. Хотя, нет. Нет, не совсем то. Про него оперный режиссер Борис Александрович Покровский, который с ним очень был близок и много работал, писал, что «мы не могли понять, как такой человек мог сделать карьеру». Мне кажется, он ее и не делал. Может, он и не мог бы ее сделать в других, менее благоприятных, холодных и деловых обстоятельствах, но его судьба хранила, и жизнь складывалась так, что ему не приходилось ни локтями расталкивать кого-то, ни зубами кусать. Я хотел сказать, что он был более практичен, чем я. Но нет, не думаю.
Вообще у него достаточно сильный был характер. Дирижер не может быть без большой воли. Он может быть мягким в обычной жизни, но в творчестве железная воля должна быть, иначе ничего не получится. Но она может по-разному проявляться.
В работе у него была способность и желание раскрывать что-то в другом человеке, а не превращать его в инструмент для реализации какой-то своей предвзятой мысли. Поэтому артисты его очень любили, и музыканты любили, они чувствовали, что с ним они становятся талантливее, с ним они становятся более блестящими, благодаря тому, что дирижер поддерживает. И во время спектакля они всегда чувствовали поток поддержки с пульта. Он замечал все ошибки и недостатки, мог через большое время, встретив артиста, попенять ему, что тот в таком-то месте такой-то оперы вступил на одну миллионную долю секунды раньше, чем было нужно. Но он понимал, что в момент творчества артист зависим от тысячи разных факторов, что его нельзя сбить, расстроить, нельзя тревогу какую-то посеять, только поддержка была. Люди это ценили.
Он всех знал по имени-отчеству. Притом, что в оркестре такого театра огромное количество музыкантов, и оперная труппа велика. Всегда первый здоровался. Но это вопросы вежливости, это не самое главное. Может быть злой человек, эгоистичный, но очень вежливый.
Он как бы питал, усиливал творческую энергию людей. Я помню, Галина Павловна Вишневская говорила, что никогда больше у нее не было такого музыкального друга, который бы так хотел, чтобы она пела. Это очень точное выражение. Когда я работал в Ереване, встретил одного музыканта, который с отцом играл во время его гастролей. Он обрадовался, что я сын Александра Шамильевича, начал рассказывать, как он у отца играл в оркестре. «Слушай, — говорит, — я думал, что я плохой скрипач, а когда он стал за пульт, я вижу — я хар-роший скрипач!» Наивное такое выражение, с юмором, но вы понимаете, о чем идет речь. Да, это так было. Конечно, его злило, если кто-то опаздывает или совсем неготовый приходит. Могло попасть этому человеку. Но, в общем, судя по воспоминаниям, он был самый тактичный из дирижёров Большого театра.
Н.К.: Александр Александрович, в одной из статей, посвященных отцу, Вы вспоминаете, что у него была блестящая память, но был случай, когда Александр Шамильевич забыл полностью партитуру оперы...
А.М.-П.: А! Я понимаю, о чем вы говорите! Это, действительно, поразительный факт. Это был спектакль «Ромео и Джульетта», опера Ш. Гуно. Премьер была 22 июня 1941 года. Это красивая опера, там пел С.Я. Лемешев, любимец публики, сладкогласный тенор, пела В.В. Барсова — соловей того времени. Отец этот спектакль подготовил. Естественно, он знал его так, что ночью мог бы, «не просыпаясь», продирижировать. И когда спектакль кончился, они вышли, – затемненная Москва, не знаю, были ли бомбежки уже или нет, но, в общем, война. Он потом осознал, что совершенно забыл эту партитуру, «Ромео и Джульетту», как если бы никогда ее не открывал. Когда вернулись из эвакуации, стали восстанавливать репертуар, и предполагалось, что он будет продолжать дирижировать этим спектаклем. Но это единственный случай был, когда отец просил передать работу другому дирижеру. Хотя он не был таким уж нервным человеком. А может, был? Может эта особая чувствительность таилась в глубине души. Во всяком случае, такой случай был. А память музыкальная у него была исключительная, и вообще хорошая память была. Был такой дирижер Юрий Федорович Файер, старше отца значительно, балетный дирижер, самый лучший. У них такая игра была. Один на определенном расстоянии держал партитуру вверх ногами несколько секунд и убирал, другой должен был догадаться, что это такое. А я с Файером играл в шахматы, когда был юношей, а он был уже пожилой человек.
Н.К.: Кто выигрывал?
А.М.-П.: Я выигрывал. В театре Ю.Ф. Файер считался хорошим шахматистом, а я тогда начал интересоваться шахматами. Я не был сильным шахматистом, тогда я играл на третий-второй разряд, потом доигрался примерно до первого, но не более того. Я хорошо играл среди плохо играющих. Юрий Федорович привык, что он в театре один из лучших по шахматной части, а я у него раз выиграл, два выиграл, и он (наивные все же люди были!) говорит отцу, что он хочет меня М.М. Ботвиннику показать (смеется). Это первый советский чемпион мира по шахматам, он был другом Юрия Федоровича. Файер думал, видимо, что если я его обыгрываю, значит, следующий шаг — это М.М. Ботвинник. А то М.М. Ботвинник второразрядников не видел в Домах пионеров.
Н.К.: Александр Александрович, как Вы считаете, кто больше всего из ближайшего окружения оказал на Вас влияние, способствовал развитию, становлению, формированию ценностей, пониманию каких-то вещей?
А.М.-П.: В первую очередь родители, хотя этого не замечаешь. Как воздух не замечаешь, однако им дышишь. То, что называют иерархией ценностей, отношение к делу, представления о порядочности, которым в меру сил стараешься (хотя бы стараешься) соответствовать, все это в первую очередь родители, конечно, закладывают. Кто еще? Друзья дома? У нас не было такого открытого дома, где бывает много людей, сегодня один зашел, завтра другой… Про М.Л. Ростроповича, например, рассказывают, что он всегда был физически окружен большим количеством молодых и не очень молодых людей. У нас этого не было. Отец не обладал такой избыточной энергией, которую надо тратить за пределами своего кабинета, за пределами своей семьи, своей работы, так что он был довольно сдержан в общении. Друзья его в основном были друзьями молодости, юности, даже детства, которые иногда приезжали из Тбилиси, из Еревана, а некоторые уже жили в Москве. Вот с ними он беззаботно, по детски «валял дурака», любил проводить время. Из более позднего периода таких близких дружеских связей, в общем, не было. Была корректность и хорошие отношения с многими, но друзья были в основном вот эти — друзья детства.
А из людей театральных… У нас бывали регулярно всего несколько человек. Хотя любили отца и очень ценили в театре многие, и с радостью с ним бы общались. Но ходили несколько человек, самые выдающиеся артисты, и, мне кажется, я «вычислил», почему. Не потому, что менее выдающихся он считал не своего, так сказать, уровня. Он ценил и уважал артистов вне зависимости от их званий или известности. Но он очень был щепетилен в служебных делах; «свои и чужие», любимчики, протекция — у него этого не было совершенно, он боялся таких вещей, хотел быть вне подозрений. Именно поэтому, я думаю, он поддерживал внеслужебные отношения с теми артистами, про которых никто не скажет, что они поют главные партии, премьерные спектакли потому, что дружат с Мелик-Пашаевым. Все, в общем-то, понимали, что Галина Вишневская — лучшее сопрано этого времени, Ирина Архипова — лучшее меццо, Павел Лисициан — лучший баритон, Зураб Анджапаридзе — лучший тенор, Иван Петров — лучший бас.... Никто не мог сказать, что они ходят к нам в гости, чтобы получить ту или другую партию. Еще отец был дружен с Б.А. Покровским — крупнейшим оперным режиссером. Это, в сущности, вся компания. Другие могли появляться эпизодически.
Был такой певец, забытый, но невероятно талантливый, Виктор Нечипайло. Он пел в некоторых отцовских спектаклях, а потом, уже когда отца не было, он к нам приходил несколько раз, с мамой общался, со мной. И он говорил, что, бывало, идет Александр Шамильевич по переулку, так хочется к нему подойти, а я нарочно на другую сторону перейду, чтобы никто не сказал, что он заводит любимчиков — «ведь знаете, у нас люди какие!».
Н.К.: А кто Вас воспитывал, когда родители уезжали или отсутствовали?
А.М.-П.: Вы знаете, ведь это сейчас все постоянно уезжают. А отец стал выезжать за границу, когда я уже довольно-таки взрослый был. Отец любил свой театр, свой дом. Он хотел бы ездить вместе со своим театром, а не приходить куда-то в чужое место и с незнакомыми партнерами все начинать с нуля. Мама с ним, конечно, ездила. Один бы он в жизни не поехал. Я дома один оставался.
А до этого у нас была няня, Клава. Деревенская женщина, молодая совсем, мне тогда она казалась очень взрослой. Сейчас на фотографию смотрю мою с ней, такая деваха деревенская замечательная. Мы с ней дружили.
Конечно, дома родители мало бывали. Заграницы тогда никакой не было, а в театре бывало частенько по два вызова, как это называли: утром репетиция, вечером спектакль. Так что они часто отсутствовали. Но дома кто-то был всегда. Была Клава, который я вслух читал «Трёх мушкетёров» и «Спартака». Она слушала. Плакала даже, когда кто-то погибал из хороших героев. Она сама плохо читала. Читала, но медленно. Вполне деревенская. Воспитывала она меня или нет? Добрая тетка была, значит, воспитывала тем самым уже. Бабушка была со мной до 10 лет. Замечательная бабушка моя.
Н.К.: Это чья мама?
А.М.-П.: Отца. Мамина мать жила отдельно, с другими дочерьми. А с конца апреля до конца сентября я сидел на даче. Раз в неделю родители приезжали. Со мной на даче жила бабушка, Клава и кто-нибудь ещё. Тогда время такое было, не то, что мобильных, никаких телефонов не было. Тишь и глушь. Раз в неделю родители приезжали. Жила один-два раза моя учительница по Дому архитектора. Была такая Зинаида Ивановна Аматова, дочка помещиков, она меня лет с 6 учила французскому, грамоте, счету и всему прочему. С ней у меня большая дружба была. Как-то отец узнал с удивлением, что она в студенческом спектакле пела Аиду, это произвело впечатление. Он-то знал, каково спеть Аиду. Пусть и на студенческом уровне.
Н.К.: Поэтому Вы сдали экзамен по языку в аспирантуру на отлично? Вы французский сдавали?
А.М.-П.: Я французский сдавал. В общем, я знал довольно прилично французский язык. Мы с Зинаидой Ивановной несколько лет занимались, в школе же у меня был немецкий, который я забыл совсем. Потом с Зинаидой Ивановной просто уже встречались по-дружески, занятий не было. А лет с 20 я занимался французским языком у другого педагога — профессионального. И, раз мы пленки не жалеем, расскажу о таком случае. Когда мы сдавали экзамены в аспирантуру Психологического института… Я ведь сказал, что если бы хоть одну четверку получил, меня бы не приняли. Может быть, ничего бы страшного не случилось и жизнь пошла бы по-другому, но сейчас не о том. Со мною поступала девушка из Молдавии, она подошла ко мне и сказала: «Говорят, вы французский знаете, помогите мне на экзамене». Я сказал: «Да, конечно». А у самого плохая мысль шевельнулась: «А как же конкуренция?» На самом деле конкуренции не было, она поступала в так называемую целевую аспирантуру, но я не знал этого. Я эту плохую мысль выкинул сразу, не поддался ей. Сдавали экзамен, что-то я ей подсказал, она получила в итоге то ли тройку, то ли четверку и была счастлива. Ей можно было для поступления хоть все тройки получить, лишь бы не двойку.
Последний экзамен — по истории партии, и мы с ней сидим рядом, уже вроде подружились. Я вытягиваю билет: первый вопрос о гражданской войне, второй — не помню, а третий вопрос — «Ленин об отношении рабочей партии к религии». Я сажусь, она смотрит: «О, какие у тебя вопросы легкие». Я говорю: «Легкие-то легкие, а вот что про это отношение говорить? Ясно, что оно плохое, но этим не отговоришься!» И вдруг она достает конспект. Не конспект даже: поскольку она с русским языком была «на вы», она просто переписала весь текст статьи Ленина, которая так и называлась: «Об отношении рабочей партии к религии». Я даже не знал, что такая статья есть. Вот так. Если бы я ей не помог с французским, то у меня бы ничего не получилось.
Н.К.: Александр Александрович, одним из самых цитируемых в Ваших публикациях писателей является М.М. Пришвин. Откуда такой интерес к М.М. Пришвину?
А.М.-П.: Он очень цитируемый, да! С моей точки зрения Пришвин недооценен как писатель в десять раз, а как мыслитель и психолог творчества в сто раз. Больше всего я читал его «Дневники». Я помню, у М.М. Пришвина есть в «Дневниках» же, кажется, заметка, что я, мол, наверное, не профессиональный писатель, так как самое лучшее свое помещаю не в повести и рассказы, а в свои дневники. На самом деле М.М. Пришвин создал, по-моему, жанр определенный — дневник как выдающееся литературное произведение. Это ценность огромная.
Михаил Михайлович Пришвин — один из тех, кто более всего помог мне в осознании сущности эстетического отношения к миру. Он очень точно описывает, как художник должен воспринимать явление для того, чтобы он захотел и смог создать художественный образ. То, что мы с Зинаидой Новлянской разрабатывали как «эстетическое отношение», очень похоже на «родственное внимание» у М.М. Пришвина. Что значит — родственное? Внимание может быть разным. Внимателен может быть сыщик, внимательным может быть турист или просто внимательный от природы человек. А родственное внимание — это внимание, которое основано на твоем родстве с предметом, с другим человеком, со всем миром. Когда ты открываешь в предмете что-то такое, что открывается только благодаря твоему родству с ним. Когда ты относишься к другому человеку, или к букашке, или к явлению природы как со-природный им, как к чему-то родственному тебе самому, тогда ты улавливаешь такие грани этого явления, которые равнодушный взгляд не увидит. А показывая это, ты создаёшь художественный образ явления.
Пришвин говорил о «творческом поведении» человека, о том, что такое переживание родства надо в себе вырабатывать, оно не должно быть чем-то однократным и стихийным. Писатель или художник должен воспитывать себя постоянно в этом отношении. У М.М. Пришвина россыпи целые удивительно тонких пониманий этого. Вот поэтому цитаты из М.М. Пришвина, как и из М.М. Бахтина, для нас самые нужные.
Н.К.: Александр Александрович, соавтором многих Ваших статей является Зинаида Николаевна Новлянская, супруга.
А.М.-П.: Соавтор очень многих статей, книг и соавтор почти всех замыслов.
Н.К.: Вы познакомились в Психологическом институте?
А.М.-П.: Да, она на год моложе меня, но в институт пришла раньше, в ту же лабораторию способностей. Если я пришёл от изобразительного искусства, то она от литературного творчества. С моей точки зрения, она замечательный русский поэт. Но «работать поэтом», а значит, и зарабатывать этим никогда не пыталась. Она говорит, что поэзия вообще не специальность, нельзя утром встать и писать стихи, если они не приходят. Так что она занималась всегда другими вещами: педагогикой, психологией. Так же, как и я, она начинала с компонентного подхода к способностям. Вслед за последователями Б.М. Теплова искала ещё какой-нибудь компонент литературных способностей. Но одновременно она вела детскую литературную студию. И благодаря этому быстро поняла, что по каким-то отдельным компонентам нельзя ничего развивать, что компоненты существуют для научного анализа, а на самом деле все происходит по-другому.
В результате она вместе с Галиной Николаевной Кудиной создала целую систему развивающего обучения литературе с первого до выпускного класса, в которой с самого начала предусмотрено не только чтение, но собственное литературное творчество детей. Оказалось, что практически все дети к этому способны.
Н.К.: Александр Александрович, с 1994 года Вы главный редактор в журнале «Искусство в школе» (www.art-inschool.ru). Расскажите об этом направлении деятельности. Что удалось сделать на посту главного редактора журнала? С какими трудностями пришлось столкнуться? Что Вас вдохновляет на эту деятельность? Откуда Вы черпаете время и силы?
А.М.-П.: Вы знаете, с одной стороны, действительно, я этим занимаюсь с большим удовольствием, с другой стороны — это область грустных переживаний и не очень веселых прогнозов.
Журнал назывался раньше «Музыка в школе». Его создал композитор и педагог Дмитрий Борисович Кабалевский. Потом он решил, что надо бы по всем предметам, связанным с искусством, создавать журналы. Но поскольку это было невозможно, он принял решение соединить все искусства под одной обложкой. Эту идею воплотил его ученик, сотрудник и последователь Геннадий Алексеевич Пожидаев, переименовав журнал в «Искусство в школе». Пожидаев пригласил меня одним из сотрудников, главным редактором я стал через три года. Мне казалось, что ориентация журнала не только на музыку, а на разные виды искусства расширит интерес к журналу, в том числе и подписка будет большая. Но это была моя наивность. На самом деле, каждый хочет читать про свое. Не каждый, но большинство педагогов не обладает готовностью расширить свои взгляды, понять, что, познавая другие искусства, они лучше понимают и свое. Им больше нравилось, когда дают материал для конкретной работы по их конкретному предмету. И в подписном смысле успеха у журнала никакого не было. Но идею общности всех искусств мне кажется, надо поддерживать, несмотря ни на что. За важными, но все-таки периферическими, поверхностными различиями искусств лежит общее отношение человека к жизни, общие законы работы воображения. Конечно, они модифицируются в зависимости от того в каком материале работает человек, но психологический исток единый. Поэтому учитель, который преподаёт искусство, лучше понимает ученика, лучше делает свое дело, если не ограничен спецификой, техникой, языком одного какого-то искусства. Не знаю, насколько это удалось донести.
Мы стараемся об искусстве говорить в широком контексте вопросов психологических, эстетических, истории искусства, общих духовных проблем развития в той мере, в какой маленький журнал может это затронуть.
Трудности огромные. Во-первых, люди, несмотря на весь демократизм наших постоянных обращений к читателям, считают, что писать способны какие-то высоколобые московские ученые, но не тот педагог из Саранска или из Сибири, который может рассказать о своем опыте. Так что они очень робко к этому относятся. Да и все трудности педагогической жизни, конечно, сказываются, писать некогда, и сил не хватает. Во-вторых, дело в том, что я до такой степени «не менеджер», что фактически ничего для расширения подписки на журнал мы толком не делаем, кроме самих выпусков, довольно хороших. Те, кто читают, говорят: «Ах, как хорошо, замечательно! Вы нам столько даете». Но подписка тает с каждым годом. Поскольку никаких других источников существования нет (может, других и не надо, не знаю), мы все время стоим на грани закрытия.
В журнале работают удивительные люди, не знаю, сейчас такие еще бывают или нет. У меня две сотрудницы пенсионерки, в отличие от меня, неработающие. И мы все этот журнал делаем бесплатно уже в течение большого времени, потому что средств от подписки хватает (пока хватало) только на само издание.
Н.К.: Александр Александрович, есть вопрос, который я хотела задать в контексте Ваших научных исследований и понимания «психического тела» человека, возможно, он и прозвучал бы тогда по-другому. Но сейчас, заканчивая интервью, я не могу не спросить. Что для Вас значит душа?
А.М.-П.: Мой ответ, возможно, сильно сократит аудиторию тех, кто со мной согласен. Вы знаете, ведь душа — Психея, а у нас появилась психика. Я не пытаюсь сейчас заниматься этимологией, тем более античной, а просто по смыслу: психика — это что-то такое, что душе принадлежит. А у нас вышло, что психика, если все, к ней относящееся, сложить, вроде и есть сама душа. Но я думаю (если сейчас не вдаваться в непосильное для нас богословское различение души и духа и допустить, что это одно), что душа — это реально существующая сущность, которая не возникает из ничего по мере созревания организма и впитывания социальных воздействий, а которая предшествует этому и проявляется, или не проявляется, или частично проявляется во всей жизни растущего человека. Душа существует, если хотите, как бессмертное Я человека, которое мы с трудом и редко в себе осознаем. Душа не возникает вторичным образом из частных процессов (психофизиологических, психологических и пр.), а через них проявляется. Поэтому мне так близко то, что говорит В.В. Зеньковский, что существует внутренняя энергия души, которая овладевает и организмом, и социальной средой или не овладевает, терпит неудачу, или частично овладевает, но которая существует и проявляется, а не «из ничего» возникает.
Н.К.: Вы верующий человек?
А.М.-П.: Знаете, я просто пугаюсь, когда говорят публично: «Я – христианин», «Я – православный», «Я – верующий». Думаешь, батюшки, да понимаешь ли ты, какую ответственность на себя этими словами берешь? Ну, что я вам скажу? Корректно скажу: крест ношу.
Н.К.: У А.И. Куприна есть рассказ «Скрипка Паганини» и, если кратко по сюжету, главный герой Николо Паганини продал свою душу дьяволу за волшебную скрипку. А заканчивается рассказ тем, что, когда настал час смерти Паганини и пришел к нему «Серый Нотариус», то оказалось, что это была невыгодная сделка, так как имени Паганини в списке контрактов не оказалось, потому что настоящее искусство, талант — от Бога. Что Вы об этом думаете? Талант — он от Бога?
А.М.-П.: Да, но другое дело, что я-то с этим сделаю. Тут я спрячусь за высочайший авторитет, за евангельскую притчу о талантах. Что такое талант вообще? Талант — это монета, вернее, мера серебра, единица материальной ценности, символ такой. Притча известна. Был господин, у него были слуги, господин отлучился и перед этим раздал таланты своим слугам. Кому больше, кому меньше. Через какое-то время он вернулся и попросил отчета, что они сделали со своими талантами. Один сказал: «Ты мне дал десять талантов, я их пустил в дело, вот тебе двадцать». Господин отвечает: «Ты молодец, верный раб. Верен в малом, будешь верен и в большом. Войди в радость господина своего». Второму пять дали, он тоже своим трудом их увеличил, отдал больше. Тоже молодец. А третий говорит: «Я знаю, что ты человек, с которым связываться опасно. Ты можешь потребовать чего-то, поэтому я боялся потерять свой талант, я его закопал в землю, вот тебе твое». У нас так и говорят: «зарыть талант в землю». И третий получает суровое наказание. Талант от Бога. Но я могу его развить, могу закопать в землю, могу его разменять, что мы видим часто очень, когда талантливый человек через 20 лет бог знает что делает, потому что свой талант подчинил чему-то более низкому. А полностью раскрыть дар Божий, свой талант — не знаю даже, достижимо ли такое в земной жизни. Во всяком случае, это редкость невероятная.
Н.К.: Последний вопрос на сегодня. Недавно в Психологическом институте на заседании методологического семинара был сделан доклад, посвященный 100-летию советской психологии, много говорили о больших ученых, о гениях, в том числе, работавших в нашем институте – это Г.Г. Шпет, безусловно, Г.И. Челпанов, Б.М. Теплов, Д.А. Ошанин и многие-многие другие. У проф. И.Н. Семенова, делавшего доклад, я спросила, возможно ли в наше время появление ученых такого уровня? Он ответил, что нет. А Вы как считаете? Так ли это?
А.М.-П.: Учёных такого уровня… Я их тоже не вижу. В чем дело? То, что я скажу, не мое утверждение. Я у очень многих читал (у В.И. Вернадского, Макса Вебера, К.Д. Ушинского и т.д.), что выдающийся человек определяется не отдельными способностями, а тем, что он все своему творчеству посвящает, что для него это абсолютная ценность, в которую он переводит всю свою жизнь. Как М.М. Пришвин говорил, главная тайна писательского труда — всерьёз переводить жизнь свою в слово. Не какие-то отдельные литературные способности, память, эмоциональность и пр., а вот так: переводить жизнь свою в слово. И так же во что-нибудь другое, в науку, например. Наверное, сейчас труднее так сосредоточенно всю свою жизнь посвятить чему-то. Возможно, в силу социальной ситуации, по какой-то тревожности общей. Но, может быть, нам кажется, что в эпоху, когда было много гениев, этому благоприятствовала жизнь? Попробуй там поживи.
Почему в начале ХХ века была такая россыпь талантов в России во всех направлениях? Когда-то я только искусство отслеживал, но там были и философы, и богословы, и инженеры, изобретатели, экономисты. Те, кого разбросало по всему миру, и те, кого здесь прикончили. И те, которые убиты не были, но прошли через долгие ссылки или были стеснены обстоятельствами так, что не вполне раскрыли свои возможности. Или — кому повезло! — просто не могли распространять свои идеи, влиять на современников. Как, например, М.М. Бахтин мой любимый. Откуда такой цветник или звездопад? Было благоприятное время? Не знаю.
А сегодня… Все мы гораздо более разбросаны, рассредоточены, не так любим и посвящаем себя своему делу, как те старики, которых я успел еще застать. На примере даже нашего института можно видеть, что разобщенность и рассеянность сил существует. В других местах еще в большей степени это можно наблюдать. Но значит ли это, что завтра не будет все по-другому? Все экстраполяции на будущее… Сейчас так, а завтра что-то может поменяться, придет новый день, какой — заранее нельзя предвидеть!
Источник: сайт ПИ РАО
Часть этого интервью, посвященная работе А.А. Мелик-Пашаева над первыми иллюстрациями к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и дружбе с вдовой писателя Е.С. Булгаковой, была опубликована в «Психологической газете» ранее — читать


















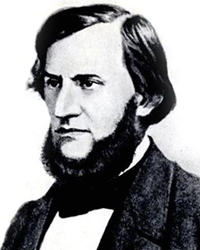

.jpg)










































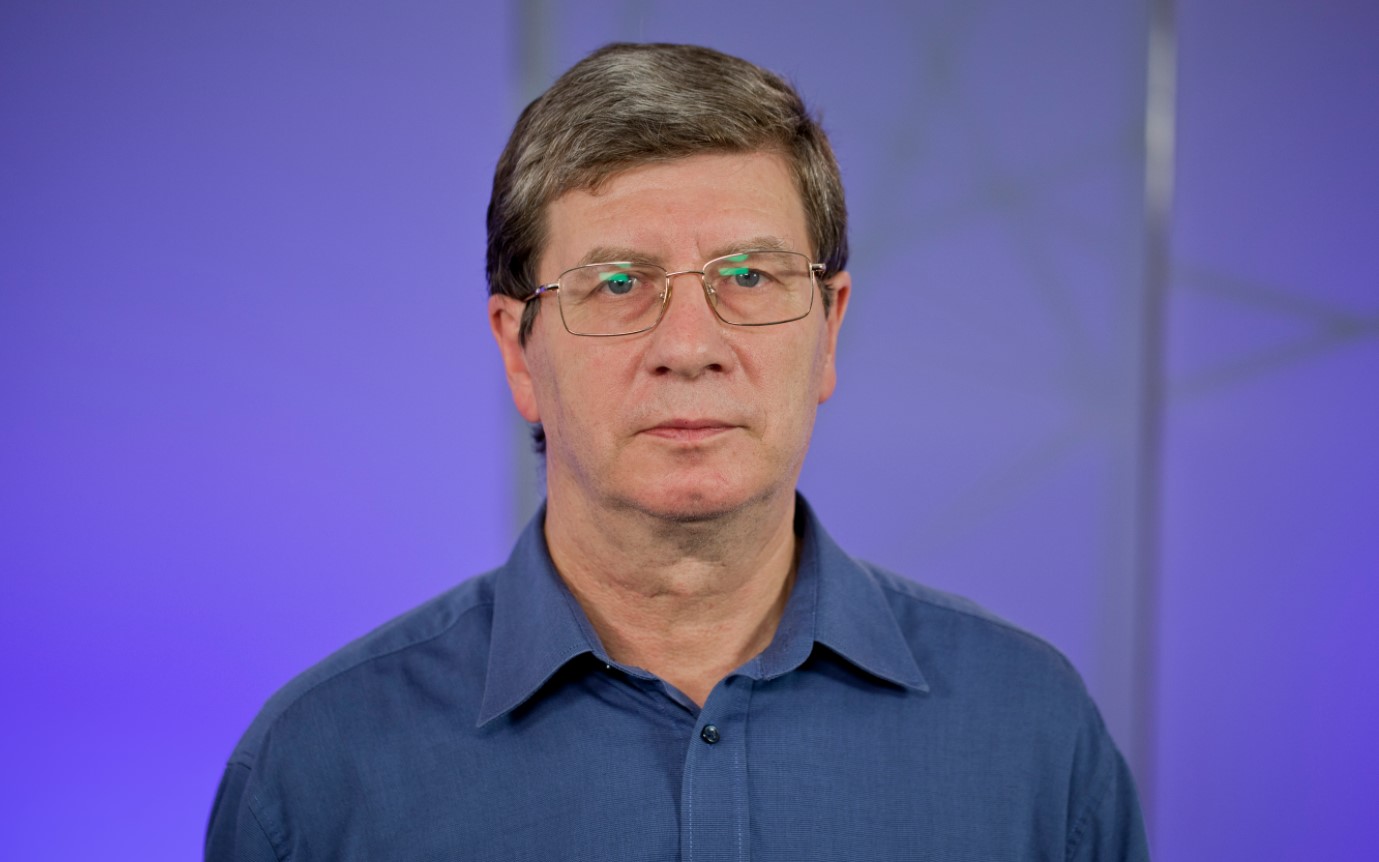










Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать