
Введение, постановка проблемы
Подростковый возраст по праву считается одним из наиболее сложных в жизни человека в связи с происходящими изменениями по всем направлениям физиологического, психологического и социально-психологического, правового статусов. Это период развития, когда подросток находится в активном поиске самого себя, дифференцируясь от статуса «ребенок» и активно, порой самыми шокирующими способами самовыражения включаясь в сообщество взрослых. Социальное поведение подростка регулируется в значительной степени внутренними, скрытыми от мира взрослых неписаными нормами, правилами и установками, отраженными отчасти и в субкультурном фольклоре. Знания элементов этой субкультуры позволят специалистам, осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение подростков, вообще «взрослому» выстроить более эффективную коммуникацию: как учебного, так и личностного характера.
Фольклор — область междисциплинарных исследований. Б.Н. Путилов, размышляя о границах данного понятия, справедливо отмечал, что «в настоящее время фольклор рассматривается не только как поэтическое самовыражение народа, но и как комплекс культурных, идеологических, социальных фактов» [1].
Этнографы и фольклористы, лингвисты и литературоведы, культуроведы и философы, этнопсихологи и социологи, педагоги и психологи обращаются к ресурсам фольклора и к фольклору как ресурсу для решения достаточно широкого проблемного поля. Фольклор рассматривается как универсальный механизм сохранения культуры, внутрикультурной и кросс-культурной коммуникации, как маркер диагностики феноменологии самосознания детей на разных этапах онтогенеза (В.С. Мухина), их эмоционального глубинного самочувствования, как инструмент вхождения в мир взрослых (И.С. Кон), механизм развития этнокультурной социализации и этнической самоидентификации, условие смыслотворчества и культуротворческой деятельности подростков [2], пространство для самореализации [3].
Для нашего исследования актуально утверждение, что фольклор — важный компонент субкультуры детства, который, с одной стороны, транслирует социокультурные традиции, накопленные многими поколениями, а с другой — характеризует современный этап развития общества, комплекс интересов, проблем, страхов, приоритетных для той или иной возрастной группы, концепты построения своей картины мира, обусловленной геоисторическим пространством, характеризуется онтолингвистическими закономерностями. Этим отчасти объясняется появление в последнее время диссертационных работ, ориентированных на изучение регионального компонента подросткового фольклора.
Особого внимания заслуживает изучение так называемого постфольклора (С.Ю. Неклюдов) [4], который по своей художественной природе близок к традиционному фольклору, но находит распространение в различных субкультурных объединениях: возрастных, профессиональных, социальных и т.д. Постфольклор соединяет в себе гетерогенные и гетероморфные элементы, активно развивается в условиях сетевого взаимодействия и включает наряду с архетипическими жанрами такие, как граффити, мем, сетература и др.
К современному школьному фольклору относятся страшилки, садистские стишки, дразнилки, анекдоты, пародийная поэзия школьников, девичий альбом и анкеты, детские тайные языки, обряды вызывания (например, Пиковой дамы, Сталина), а также другие жанры и смешанные формы [5]. Наиболее полное исследование школьного фольклора представлено в коллективных монографиях под редакцией А.Ф. Белоусова: «Школьный быт и фольклор» (1992), «Русский школьный фольклор: от “вызываний” Пиковой дамы до семейных рассказов» (1998) [6], монографии М.П. Чередниковой «Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии» [7], учебном пособии Ф.С. Капицы [8], методологически осмыслено в работах С.М. Лойтер [9].
Отдельного внимания заслуживают исследования поэтики конкретных жанров подросткового фольклора. В статье А.С. Киндеркнехт раскрыты художественные и функциональные особенности жанра «мирилка» [10], жанры «страшного» эпического детского фольклора (классическая страшилка, страшилка-пугалка, страшилка-сказка, страшилка-быль, страшилка-быличка; антистрашилки) — в статье Т.А. Мирводы [11], «садисткий стишок» в контексте городского взрослого и детского фольклора проанализирован М.Л. Лурье [12], анекдот как речевой и культурный феномен широко исследован, одна из последних работ — статья С.Ю. Щербиной [13].
Во все времена фольклор оперативно реагирует на изменения, происходящие в обществе. Подростковый фольклор, являясь органической составляющей этого феномена, также имеет тесную связь с меняющейся социальной реальностью, черпает в ней основной контент. Эта реальность охватывает не только жизнь собственно подросткового сообщества, но и жизнь взрослых, и социум, в котором все реализуют свое бытие, и его культуру. Следовательно, в пользовании подростков оказываются не только выработанные в их среде элементы фольклора, но и добытые из различных источников, в том числе из интернета, «схваченные на лету» анекдоты, слова, «ответки», квалифицируемые ими как потенциально успешные.
Цель статьи — предложить специалистам, осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания подростков, материалы актуального школьного фольклора, характеризующие специфику поведенческой субкультуры, и их психолого-педагогическую интерпретацию для дальнейшего моделирования профессиональной деятельности.
Цель исследования — провести анализ элементов подросткового фольклора как элемента субкультуры современных подростков.
Задачи исследования:
- изучить наиболее часто употребляемые элементы подросткового словаря;
- изучить пародийные социальные проблемы через анализ анекдотов;
- проанализировать современные «ответки» подростков;
- обозначить психолого-педагогический потенциал рассматриваемых жанров.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 120 подростков, обучающихся в 6–9 классах школ г. Саратова (мальчики 42%, девочки 58%). Средний возраст М=13,4 лет. Использованы метод опроса и стандартизированного наблюдения. Анкета, предъявляемая подросткам, включала социодемографические показатели (пол, возраст, класс, наличие братьев и сестер, родителей) и открытые вопросы о наиболее часто используемых в речи словах, знании анекдотов, «ответок». Учителям предлагалось описать ситуацию, в которой использовались те или иные слова из подросткового словаря.
Результаты исследования. Обратимся к результатам изучения языка подростков. Не претендуя на полноту его представления, отметим, что язык современных подростков изобилует ненормативной лексикой и англицизмами.
Исследователи отмечают, что жаргонные подростковые языки передаются из поколения в поколение [14]. Относительно ненормативной лексики можно заметить ее стабильность и практически неизменяемость. Ненормативная лексика, очевидно, будучи распространенной среди взрослых и представленной в повседневной культуре, служит одним из способов самовыражения как взрослого и практически является первичным проявлением чувства взрослости в раннем подростковом возрасте. Поскольку формально-деловые взаимоотношения, как правило, ограничивают коммуникацию с использованием ненормативной лексики, подростки используют в своей коммуникации слова-заменители, характеризующиеся рядом особенностей.
Во-первых, широко распространено использование звукосочетаний «СПС», «ПЖ», «ЗДР», «НЗ»/«ХЗ», «ШП», «АГР», «ЛП/ЛД», «ЧЕЛ», «ОК». Такое сокращение используется не только с точки зрения экономии времени для передачи сообщения, но и для скрытой коммуникации в условиях запрета на разговор (например, на уроке, на контрольной работе и пр.), т.е. имеет функциональное значение для текущей деятельности. Кроме того, как отмечает П.Д. Доронина [15], сокращение слов и использование аббревиатур связано с часто наблюдаемой сегодня необходимостью и возможностью вести диалог одновременно с несколькими партнерами (например, одновременно с аккаунтов разных социальных сетей или приложений, при наличии множественных аккаунтов внутри одной и т.п.).
Во-вторых, подростковый язык изобилует англицизмами. Такие слова, как «трэш» (плохое, безумное, устаревшее, грустное — много значений), «кринж» (стыдоба, позор), «хайп» (что-то популярное), «рофл» (шутка), «изи» (легко), «ливить» (уходить), «шеймить» (позорить) и т.п., являются калькой от соответствующих слов английского языка, который в современной образовательной парадигме начинают изучать довольно рано. Кроме того, английский язык широко представлен в качестве ключевых слов в пользовательском словаре компьютера и интернета. Отсюда и поговорки типа: «Что немцам хейт, то русским кликбейт» (9 кл.), «Что немцу шиза, то русским жиза» (9 кл.).
В-третьих, в лексику подростка включены также слова-заменители общеупотребимых слов: например, «фуфел» (дурак), «нефор» (некультурный человек), «позер» (демонстративный), «варик» (вариант), «токсик» (негативный), «лютый» (крутой), «чилить» (расслабляться) и т.п.
Наконец, подростковый язык изобилует словами, почерпнутыми из компьютерной и интернет-культуры: «юзер» (пользователь, может быть продвинутым), «рофл» (шутка), «банить» (заблокировать), «байтить» (провоцировать) и пр.
Использование «подросткового словаря» является не только важным средством коммуникации, но и отражает определенный уровень развитости подростка, его «дворовой социализации», степень включенности в подростковое сообщество и служит индикатором в определении «свой-чужой» для представителей этих сообществ. Эти данные согласуются с результатами исследований Н.Н. Ермоленко с соавторами [16], в котором показано, что подростковый сленг помогает пережить особенности рассматриваемого возрастного периода и, в первую очередь, проблему понимания в кругу сверстников. Авторы также отмечают «динамичность, межпоколенческую изменчивость сленга» [16, с. 132]. Вместе с этим наблюдается устойчивость пристрастия младших школьников и подростков к поддержке своего языка. М.В. Осорина подчеркивает, что язык создает семиотическое пространство, общее для всех, кто отождествляется с «коллективным Я» детской группы, и отгораживающее тех, кто к ней не принадлежит [14].
Фольклор подростков изобилует различными функциональными высказываниями, ритмичными и легко запоминающимися дву- и четверостишьями. Основу этих «стишков» часто составляют официально признанные и используемые в школе и детских оздоровительных центрах речевки. В них выражается отношение к объектам действительности. Например:
Наш девиз — четыре слова:
Чтоб сгорела наша школа.
Если школа не сгорит —
Мы подложим динамит.
(Мл. подростки)
В современном подростковом фольклоре смыкаются проблемы взаимоотношений подростков и взрослых, где утилизируется напряжение, связанное с отношением взрослых к самому подростку, а подростки часто проверяют взрослых на эмоциональную «прочность», устойчивость. Это утверждение в полной мере относится к «садистским» куплетам:
Маленький мальчик мину нашел,
В сумку положил и в автобус зашёл.
Люди на мальчика глянули косо —
Дальше поехали только колеса.
(Мл. и ср. подростки)
В таких жанровых образованиях творчески смыкаются внутренние переживания подростков и высмеиваемые в фольклорном мире взрослых распространенные клише:
Девочка Вера сидит на трубе,
Мечтает о смерти, скорбит о судьбе.
Тут труба взрывается.
Газпром — мечты сбываются.
(Ст. подростки)
В подобных четверостишьях утилизируется напряжение, связанное с внутренними переживаниями подростков относительно своей внешности, авторитетности среди сверстников, необходимости постоянного самоутверждения среди них, страхи в отношении будущего.
В младшем подростковом возрасте функционально активно такое жанрообразование, как «ответки», своеобразные ритмизованные словесные заготовки, позволяющие мгновенно отразить коммуникационный акт вербального нападения. Доказано, что несмотря на достаточно высокий уровень физических поединков и групповых драк среди подростков, происходит постепенный переход к проявлению вербальной агрессии: физический спарринг переводится в вербальную форму, батл. В «ответках» отрабатываются элементы коммуникативной компетентности в виде коротких фраз, типа «— Краш! / — Крым наш!», «Говоришь на меня — переводишь на себя!»; или с провоцированием ответа: «— Может тебе ёлку достать? / — Зачем? / — Чтобы ты на нее села!».
Несмотря на то, что «ответки» функционируют в основном в младшем школьном возрасте, в младшем подростковом они еще сохраняют свою актуальность по причине недостаточной «дворовой» социализации, которая в настоящее время очень ограничена.
Подростковые анекдоты составляют еще один аспект фольклора и также выступают средством коммуникации в сообществе.
Необходимо отметить, что в изученных нами сообществах анекдоты имеют синтетический характер. В старшем подростковом возрасте имеются заимствованные анекдоты из взрослого мира, собственные сочинения и те, что остались от прежних поколений подростков. Они могут быть условно структурированы в несколько кластеров.
В частности, кластер познавательной активности в школе. Это те анекдоты, которые формульно заимствуют учебные материалы: например, аллюзии на литературные произведения, математические действия и др. Например: «Вот все говорят, что число 666 — дьявольское, но никто даже не задумывался, что число 25,8 — это корень зла, потому что это корень из 666».
В ходу анекдоты, в которых отрабатывается запрет на психоактивные вещества. Особенность ситуации состоит в том, что многие подростки к своему возрасту уже пробовали алкоголь, а некоторые делают это регулярно (в нашей выборке — это около 82% респондентов, а по другим данным — порядка 88% [17]), имеется у многих подростков и опыт употребления сигарет (в действительности в последние годы количество подростков, употребляющих табак, значительно снизилось [18]), использование наркотиков в выборке отсутствует. Отметим, что актуальные анекдоты включают и то, и другое, хоть в них в скрытой форме и прослеживается понимание того, что психоактивные вещества губительны для человека и неприемлемы. Например, тема употребления алкоголя распространена на всех уровнях подросткового возраста: «Пока все клали в чай две ложки сахара, Ваня клал одну. Уже с детства организм Вани требовал полусладкого» или «Пятилетнему мальчику Ване на день рождения подарили набор “Юный слесарь”. Через три дня Ваня спился». Тема употребления наркотиков появляется в основном с середины подросткового возраста, в связи с достижением определенного уровня информированности в данном вопросе. Некоторые анекдоты требуют владения отвлеченным мышлением: «Вы знаете, что сделал суеверный наркоман? Прииисел на дооорооожку!»
В анекдотах, распространенных среди подростков, также отрабатываются злободневные эротические темы, связанные с взаимодействием с противоположным полом, неравными по возрасту и статусу отношениями, половыми органами, а также проблема однополых* связей (которые, как правило, высмеиваются). Например, «MILF hunter-ы любят жаркую погоду только потому, что она 35+». Отчасти эти результаты пересекаются с данными, представленными другими авторами, отмечающими чрезвычайную популярность этой тематики у подростков 12–16 лет [19].
Наконец, в активном словаре подростков имеется достаточно много анекдотов про учителей («МарьИван»), в которых они выставляются в виде интеллектуально слабых с недалеким кругозором субъектов. В большинстве анекдотов проходит фоном высмеивание «взрослых» ценностей, официальных святынь или достижений. Например, «Знаете, почему я не уступаю старушкам место в метро? Потому что бабки — это не главное!» Необходимо отметить, что подростки особо чувствительны к неискренности и фальши в представлении взрослыми определенных событий или «истин».
Вместе с тем имеется целый раздел анекдотов, связанных с компьютерными (сетевыми) играми, а также приложениями и блогерами. Например, «Знаете, чем гробовщик отличается от игрока Brawl Stars? Гробовщик не радуется, когда ящик выпал»; «Вы знаете, что бы говорил Ленин, если бы он стал блогером?! Ссылка в описании».
Коммуникация в цифровой среде в данный момент становится предметом множества исследований. Однако можно отметить их недостаток и все еще сильную ограниченность научных данных в этой области (во многом благодаря закрытости подростковых интернет-сообществ).
Таким образом, анекдоты в подростковой субкультуре распространяются по принципу их отнесенности к определенным темам, которые имеют значение для утилизации напряжения, касающегося разных переживаний, в основном не выходящих за пределы возрастной когорты.
Заключение
Исследования повседневной коммуникации подростков и анализ подросткового фольклора в рамках подростковой субкультуры находится на очень ограниченном уровне. Проведенный анализ литературы с глубиной более 1000 работ по тематическим рубрикам elibrary.ru позволил установить, что в психолого-педагогической литературе охват данной проблематики составляет небольшое количество коротких сообщений в сборниках научных трудов и работы (преимущественно диссертационные) в области фольклористики (как правило, на уровне собирательства), лингвистики и культурологии. Между тем проблема, несмотря на отмечаемую многими исследователями содержательную устойчивость подросткового фольклора и в целом субкультуры, имеет инвариантную составляющую, которая наполняется специфическим содержанием каждого нового поколения. Эта инвариантная составляющая и должна стать предметом исследований в данной области. Это позволит установить наиболее важные характеристики жизнедеятельности подростков и особенности их социализации, усвоения социальных навыков. Такое научное знание необходимо для психологов и педагогов, работающих с подростками для полноценного включения во взаимодействие с ними, понимания их проблем и, в случае необходимости, оказания действенной помощи в их включении в подростковое сообщество.
Для психолого-педагогической практики принципиально важно ориентироваться в артефактах подростковой субкультуры, понимать ее основания, те нормы, которые лежат в основе подросткового поведения, учитывать смысловую нагрузку используемого словаря и психологическую подоплеку (порой вызывающих) высказываний подростков, особенно реализуемых при большом количестве наблюдателей.
Список источников
- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб.: Наука, 1994. – URL: http://www.infoliolib.info/philol/putilov/index.html (дата обращения: 11.09.2023).
- Гаврилова А.О. Современный подросток в образовательном пространстве русской народной культуры // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2016. – № 2 (106). – С. 9–15.
- Абраменкова В.В. Подростковая субкультура как пространство самореализации // Мир психологии. – 2008. – № 1 (53). – С. 175–189. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_10025573_81513802.pdf (дата обращения: 11.09.2023).
- Неклюдов С.Ю. Фольклор и его исследования: век двадцатый // Экология культуры. – 2006. – № 2 (39). – С. 121–127.
- Никитченков А.Ю. Концептуальные основы изучения фольклора в системе филологической и методической подготовки педагогов начальной школы // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. – 2012. – Вып. 3 (26). – С. 68–82.
- Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов / сост. А.Ф. Белоусов. – М.: Ладомир, Издательство АСТ-ЛТД, 1998. – 744 с. («Серия русская потаенная литература»).
- Чередникова М.П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии. – Ульяновск: Лаб. культурологии, 1995. – 237, [3] с.
- Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 320 с.
- Лойтер С.М. Феномен детской субкультуры. – Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 1999. – 42, [1] с.
- Киндеркнехт А.С. Мирилка как жанр детского фольклора // Жанры речи. – 2019. – № 4 (24). – С. 314-319.
- Мирвода Т.А. Детский страшный повествовательный фольклор: к вопросу о жанровом многообразии традиции // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 436. – С. 38-48. DOI: 10.17223/15617793/436/5
- Лурье М.Л. Садистский стишок в контексте городской фольклорной традиции: детское и взрослое, общее и специфическое // Антропологический форум. – 2006. – № 6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sadistskiy-stishok-v kontekste-gorodskoy-folklornoy-traditsii-detskoei-vzrosloe-obschee-i-spetsificheskoe/viewer (дата обращения: 12.09.2023).
- Щербина С.Ю. Анекдот как культурный феномен // Современное педагогическое образование. – 2020. – № 10. – С. 167-171.
- Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб: Питер, 2021. – 448 с.
- Доронина П.Д. О языке подростков в социальных сетях // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – 2017. – № 3 (56). – С. 136-143.
- Ермоленко Н.Н., Кучугурная Е.С., Мозговая Н.Н., Азарова Е.А. Современный сленг как норма взаимодействия в пространстве общения в подростковом возрасте // Уральский филологический вестник. Серия: Психолингвистика в образовании. – 2015. – № 4. – С. 124-133.
- Зубова Р.И. Алкоголепотребление в подростковой среде: социальный аспект проблемы // Отечественный журнал социальной работы. – 2014. – № 3. – С. 80-90.
- Сахарова Г.М., Антонов Н.С., Салагай О.О., Донитова В.В. Глобальное обследование употребления табака среди молодежи в возрасте 13–15 лет в Российской Федерации: сравнение тенденций в 2004 и 2015 гг. // Пульмонология. – 2017. – Т. 27. – № 2. – С. 179-186.
- Драгунская Л.С. Культура как морфология переживания // Человек. – 2010. – № 6. – С. 55-69.
Источник: Фирсова Т.Г., Шамионов Р.М. Современный подростковый фольклор как отражение поведенческой составляющей субкультуры современных подростков // Сибирский педагогический журнал. 2023. №6. С. 22–31. DOI: 10.15293/1813-4718.2306.02
* ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России. — прим. ред.












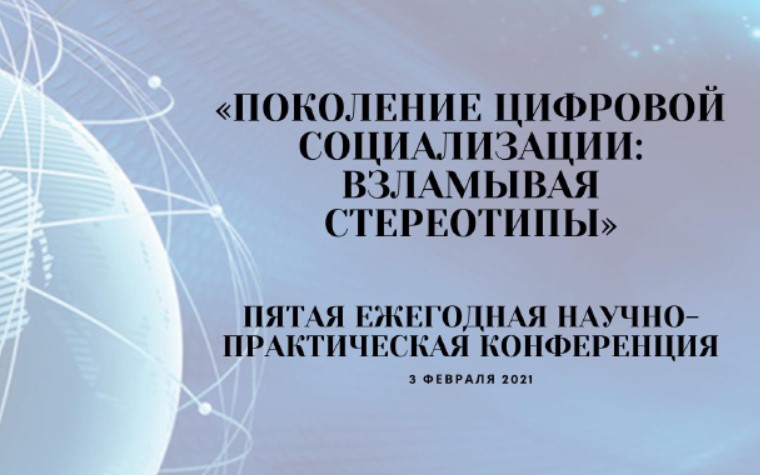

















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать