
Европейские и русские художники (в отличие от живописцев и поэтов Дальнего Востока) нечасто бывают психологами и философами искусства. Лишь немногие из них испытывали необходимость с достаточной полнотой осмыслить внутренний опыт, который лежит в основе их художественных откровений, и облечь его в слова, которые помогут другим приобщиться даже к тому, что в слова не вполне вмещается. Но кто же это сделает, если не они?
Кем-то замечательно сказано, что существуют два типа знания: можно знать «о чем-то», а можно знать «что-то». Знание первого типа приобретается в рамках пресловутого «субъект-объектного отношения». Оно может быть обширным и полезным, оно не противится систематизации, сравнительно легко транслируется в рационально-вербальной, однозначно понимаемой форме, но при этом остается поверхностным в буквальном, не оценочном смысле слова: это знание о поверхности вещей, которые предстоят человеку («субъекту») как внешние объекты. Знание второго типа преодолевает эту отстраненность, оно подразумевает внутреннюю сопричастность с изучаемым явлением, проникновение в его сущность, видение предмета «изнутри», результат его — не рациональное знание только, а целостный опыт. Передать его не так легко: чтобы понять суть дела, другой должен обладать в какой-то мере аналогичным опытом.
Когда я начинал заниматься проблематикой художественного творчества, я обратил внимание на то, что большие ученые, оснащенные высоким профессионализмом и обширными знаниями, могут проходить мимо наиболее существенных моментов зарождения и воплощения художественных замыслов. Думаю, что причина этого — именно отсутствие собственного, пусть скромного, но полноценного опыта — опыта творчества в каком-либо виде искусства; они знают «о чем-то», а не «что-то». (Редчайшее исключение — это работы М.М. Бахтина, о собственном художественном творчестве которого мне ничего не известно.)
По этой причине исключительную ценность для психологии искусства и для развивающей педагогической практики в этой области имеют те немногочисленные труды художников, которые не только создавали свои произведения, но с такой же серьезностью делились опытом их порождения.
Один из этих немногих — Михаил Александрович Чехов, гениальный актер, теоретик театра, педагог, мыслитель и человек, обладавший определенным духовно-практическим опытом самопознания.
Его литературное наследие, как и сама театральная практика, включает в себя многие психологические и технические подробности, которые до конца понятны и жизненно важны только для работников театра. Но еще больше в них того, что равно значимо для всех областей художественного, а может, и всякого иного творчества. Косвенным образом — даже для такого, которое в аскетической практике называлось «художеством из художеств» и которое состоит не в создании какого-либо произведения, а в создании, точнее — воссоздании себя самого, своей истинной человеческой сущности.
В нашем понимании, театр — это один из видов искусства или синтез отдельных искусств. Но по своему происхождению театр не синтез уже существующих искусств, а, скорее, некий первоначальный «синкрет», а лучше сказать — общий дохудожественный (мистериальный) корень, из которого произрастают, постепенно обособляясь, все виды творческих практик, которые мы называем искусствами.
И когда Михаил Чехов говорит о творчестве актера, то, в силу специфики театрального искусства, с особой рельефностью выступают те задачи и закономерности, которые присутствуют и в других видах художественного творчества. Но там они присутствуют как бы «прикровенно», действуют отчасти по умолчанию, не так настойчиво стучатся «в двери сознания» творца.
Последующие фрагментарные заметки ни в коей мере не претендуют на то, чтобы исчерпывающим образом осветить заявленную тему. Я попытаюсь только выделить некоторые ее существенные аспекты для возможного в будущем более глубокого осмысления.
Главную проблему актера М. Чехов видит в том, что он, в отличие от музыканта или живописца, не знает своего инструмента и не овладевает им сознательно. Для музыканта, например, существует его «я», его инструмент, которым он овладевает, и музыкальное произведение, которое он создает или исполняет, а для актера существуют только его «я» и его произведение, то есть роль. Актер сам и есть свой инструмент, но он обычно не осознает ни себя как инструмент, который не тождественен «я» и может быть от него отделен, ни своего «я» как того, кто должен владеть этим инструментом, то есть владеть самим собой как инструментом.
Какое отношение это имеет к другим видам искусства, не связанным с созданием сценического образа? Какая общая проблема творчества высвечивается здесь с максимальной ясностью? Это проблема вненаходимости творца.
Некогда М.М. Бахтин ввел в научный обиход этот диковинный и бездонный по содержанию термин — «вненаходимость» [1]. Термин понадобился, казалось бы, для вполне конкретной цели — для пояснения отношений писателя-автора и того героя, образ которого он создает. Но применимость его оказалась поистине безграничной. Позиция вненаходимости значима во всех искусствах, независимо от того, идет ли речь об изображении человека или других явлений бытия, в психотерапии и консультировании, в педагогике, даже в богословии (творец пребывает и в сердцевине сотворенного мира, и вне или над ним), она является условием плодотворности любых диалогических отношений, в которые мы вступаем, и так далее.
Быть вненаходимым — значит соединяться, сливаться душой со своим предметом, кем бы и чем бы он ни был, и в то же время удерживать позицию вне его, видеть и оценивать мир с его точки зрения, сохраняя при этом свою.
В творчестве человек всегда вненаходим. Если бы он воспринимал свой предмет только как нечто внешнее и объективное, не проникал в душу его, ему не открывалось бы ничего такого, чего не видят все и что может раскрыться в специально создаваемой выразительной форме. С другой стороны, если бы он «тонул» в переживании единства с предметом, не удерживая позицию вне его, он не мог бы создавать завершенный выразительный образ, в котором содержание пережитого как бы отделяется от самого автора, в известном смысле объективируется и делается доступным другим. Не мог бы как первый зритель «извне» контролировать сам процесс создания произведения на предмет его соответствия замыслу и переживанию. (Фантастический вариант такой потери вненаходимости описан в знаменитой повести О. де Бальзака «Неведомый шедевр»: великий художник считает своим лучшим произведением холст, на котором другие люди не видят ничего.)
Художник вненаходим не только предмету, образ которого создает. Он очевидным образом вненаходим своему инструменту в широком смысле слова, то есть всей совокупности выразительных средств — цветов и форм, музыкальных тембров, слов и языковых конструкций с их звуковыми и ассоциативными качествами; вненаходим своей красочной палитре, скрипке, виолончели, роялю (к которым истинный музыкант всегда относится диалогически, как к живым существам со своим характером, настроениями и возможностями) и т.д. Всему этому он внутренне сопричастен и в то же время трезво, «извне» пользуется возможностями материала для воплощения своего замысла.
Но существует еще один, неявный аспект творческой вненаходимости, который бывает менее различим, скрываясь за неоднозначно понимаемым словом «вдохновение». Вспомним: по М. Чехову, художник знает свое «я», свой инструмент (средства, материал своей работы) и свое произведение. Мы сказали о вненаходимости произведению и средствам его создания, но творящий художник вненаходим и самому себе — своему привычному «я» с его повседневными эмоциональными реакциями, житейской системой ценностей и отношений. В творчестве он становится другим.
Далеко не всегда, но во многих случаях художник это осознает. Вспомним хрестоматийное пушкинское «Пока не требует поэта...» или многочисленные свидетельства post factum, когда автор на трезвую голову констатирует, что созданное им далеко превосходит его повседневные возможности и словно даже не им создано. Или, к примеру, замечание М.М. Пришвина, пояснявшего, что авторское «я» в художественном тексте, написанном от первого лица, означает совсем не то, что соответствующее местоимение в повседневной речи, и т.д.
Но в большинстве случаев художник, писатель, музыкант не фокусирует на этом внимание и тем более не предпринимает специальных усилий, чтобы этого достичь. Актер же не может себе этого позволить. Создание сценического образа «явочным порядком» заставляет его осознавать свою вненаходимость самому себе и профессионально овладевать ею уже на телесном уровне, поскольку инструментом и материалом создания образа является не внеположный ему материал, а он сам, и в первую очередь его тело. «Пока я не знаю свое тело как чужое, — говорит Чехов, — оно мной управляет на сцене, а не я им» [4, с. 80–81].
Вот еще одно из многих его высказываний на эту тему: «Материалом, которым вы пользуетесь для воплощения ваших художественных замыслов, являетесь вы же сами, с вашим телом, голосом и способностью движения. ...Вы находитесь в том же отношении к своему материалу, как и всякий другой художник к своему. Как живописец, например, находится вне материала, которым он пользуется для воплощения своих образов, так и вы как актер находитесь в известном смысле вне вашего тела и вне творческих (даже творческих! — А.М.) эмоций, когда вы играете, охваченный вдохновением. Вы находитесь над самим собой. Ваше высшее «я» руководит живым «материалом. …оно становится вашим вторым сознанием, наряду с обыденным, повседневным. Но и здравый смысл низшего «я», обыденного сознания должен при этом сохраняться» [там же, с. 246].
Сам Чехов обладал в высшей степени развитой способностью отчетливо видеть себя, трезво оценивать и управлять своей игрой «со стороны», как репетируя в воображении, так и при реальном исполнении*.
Он предлагает актерам множество разнообразных длительных упражнений, укрепляющих актера в позиции вненаходимости по отношению к собственному телу. «Пусть узнает актер, что тело его, его голос и мимика, слово его, все это в целом — его инструмент. Пусть он слушает голос свой со стороны — и тогда он узнает его и им овладеет; пусть он внимательно смотрит со стороны на себя — и он овладеет своими движениями; пусть произносит (и слушает) слово как музыку — он научит себя говорить» [там же, с. 81].
При этом Чехов был категорически против формальных физических или голосовых упражнений. «Телесные упражнения нужны, но они должны быть построены на ином принципе, чем те, которые обычно применяются в театральных школах. Гимнастика, пластика, фехтование, танцы, акробатика и т.п. мало способствуют развитию тела как инструмента для выражения душевных переживаний. Чрезмерное злоупотребление ими вредит телу, делая его грубым и невосприимчивым к выражению внутренних душевных импульсов» [4, с. 220–221]. (Замечу попутно: бессодержательное освоение технической стороны дела вредно во всех искусствах, и лучшие педагоги всегда это понимали.)
Все телесные проявления должны быть «насквозь» выразительными, выражать внутренние состояния. Нужно, к примеру, работать над движением, над жестом. Но это должно быть не просто движение, а «движение вдумчивости», «движение антипатии или симпатии» и т.п. [там же, с. 81]; в свою очередь, тонкие изменения жеста должны отзываться изменениями душевного состояния актера [там же, с. 215], и так во всем. Подобно тому, как создаваемая художником форма становится «насквозь» прозрачной для выражаемого внутреннего содержания, тело актера на сцене («тело роли») превращается в «конденсированную, кристаллизованную психику»** [там же, с. 145].
Но и сама психика актера претерпевает аналогичную трансформацию, а это уже значимо для всякого искусства, а не только для сценического.
Достаточно очевидно, что постоянные усердные занятия какой-либо деятельностью сами собою модифицируют и специализируют нашу психику. Тем более, когда речь идет о вовлеченности человека в определенную область творчества, где он обрел возможность реализации того, что В.В. Зеньковский назвал «внутренней активностью души» [2]. Восприятие мира, внимание, память человека приобретают избирательную направленность, обостряется эмоциональная отзывчивость на значимые для него впечатления жизни, развивается воображение, предвосхищающее будущий образ и способ его воплощения, и т.д. Но происходит это по большей части непроизвольно, как бы само собою, вследствие самой осуществляемой деятельности. Происходит без осознания нетождественности своего «я», стремящегося к достижению творческой цели, — и своей же психики как «инструмента» ее достижения. Иначе говоря, без осознания вненаходимости «я» по отношению к своей психике.
С точки зрения М. Чехова, актерская профессия требует другого. И он предлагает целую россыпь конкретных упражнений на воображение и внимание, цель которых — приобретение власти творческого «я» над образами, способности произвольно их вызывать, изменять, управлять ими [4, с. 168–176].
Тут мы встаем лицом к лицу с одной из главных загадок художественного творчества, а может быть, и тайн его, не имеющих разгадки, — с относительной независимостью создаваемого образа от своего творца. Недвусмысленный ответ на этот вопрос содержится в известном стихотворении «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель...». Полагаю, что ответ А.К. Толстого в его общей форме не каждый сможет принять. Но сам труднообъяснимый факт, что художественный образ не собирается из частей сознательными усилиями, а «приходит», возникает в сознании творца, возникает иногда в отчетливой и завершенной форме, чаще в форме непроявленного, но неуступчивого «зародыша», который требует воплощения, соответствующего его внутреннему содержанию, — этот факт подтвержден столькими свидетельствами великих людей, что игнорировать его, или объявлять простой иллюзией, или квалифицировать как некое психическое отклонение было бы нелепой самонадеянностью. Творец может чувствовать себя буквально окруженным образами, он испытывает уверенность, что сочиняемое им в каком-то смысле уже существует, и он должен найти музыкальную, словесную или иную форму, в которой оно сможет проявиться, персонаж может не подчиниться плану писателя и поступить «по-своему» и т.д., и т.п.
Обратимся вновь к концепции М.М. Бахтина и к проблеме отношений автора и героя произведения. Сознание и воля автора охватывают и героя, и все пространство создаваемого мира, в котором его герой живет, — и в то же время созданный герой сохраняет, как и реальный человек, некую внутреннюю свободу, сокровенную глубину. Автор как бы не все и не до конца заранее знает о нем и не может произвольно им манипулировать, герой состоит с ним в диалоге, сохраняет внутри созданного автором мира свою точку зрения и свой относительный суверенитет. (За этой философско-литературоведческой концепцией легко угадывается аналогия: автор произведения — и всемогущий Творец, который, как неотъемлемую ценность, охраняет свободу сотворенного Им человека.)
Теперь вернемся к тому, как понимает Чехов воображение актера, который заново творит образ, созданный писателем, сообщая ему сценическую жизнь. В его трудах с еще большей остротой выступает противоречивое двуединство всевластия творца и самостоятельности образа. Работа творческого воображения не в том, чтобы создавать в идеальном плане образ кого-то, условно существующего пока лишь в тексте пьесы. Задача артиста, как было сказано, в том, чтобы силой воображения приобрести власть над образами, а для этого надо, прежде всего, научиться активно ждать. «Несмотря на способность образов жить своей самостоятельной жизнью, ваша активность является условием их развития. Активно ждать — значит, задав вопросы, ждать и смотреть, а образ является и меняется, как видимый ответ на все вопросы. С другой стороны, образ — продукт творческой интуиции актера и, в качестве такового, самостоятельного существования иметь не должен. И в то же время образы могут потребовать времени, чтобы совершить необходимое им превращение» [4, с. 170]. Далее еще более прямо: «По мере того, как вы будете прорабатывать и укреплять ваше воображение, в вас возникает чувство, которое можно выразить словами: то, что я вижу моим внутренним взором, те художественные образы, которые я наблюдаю, имеют, подобно окружающим меня людям, внутреннюю жизнь и внешние ее проявления. С одной только разницей: в обыденной жизни за внешним проявлением я могу не увидеть, не угадать внутренней жизни стоящего передо мной человека. Но художественный образ, предстоящий моему внутреннему взору, открыт для меня до конца со всеми его эмоциями, чувствами и страстями, со всеми замыслами, целями и самыми затаенными желаниями. Через внешнюю оболочку образа я «вижу» его внутреннюю жизнь» [4, с.171].***
Тут снова речь идет о «сквозной» прозрачности художественной формы. Но применительно уже не к сценическому образу, который актер создает, а к образу, созерцаемому и управляемому воображением.
По-особому понимает Чехов и роль другого психологического качества, постоянно сопутствующего нам в повседневной жизни, — внимания, неразрывно связанного у него с воображением. Внимание актера — это деятельность или процесс, в котором одновременно нужно выполнять четыре действия: удерживать объект внимания, притягивать его к себе, устремляться к нему и проникать в него. Для развития творческого внимания Чехов предлагает сосредоточивать его на различных объектах — от реального предмета или звучащей речи до аналогичных явлений, вызванных в воспоминании и, наконец, до активно создаваемых воображением [4, с. 173].
Так повседневные элементы психики — воображение и внимание, — преобразованные, укрепленные, подчиненные творческому «я», становятся инструментами актерского творчества. Думаю, то же, неосознанно и непроизвольно, происходит и в других областях творчества художественно одаренного человека.
М. Чехов много говорит и о необходимости преобразования эмоциональной сферы художника. Актер не должен в особой атмосфере сценического действия воспроизводить («копировать») свои житейские эмоциональные реакции [4, с. 169, 247–248, 311 и др.] В творчестве душевный опыт человека «очищается от всепронизывающего эгоизма вашей обыденной жизни, вашего низшего сознания и преображается в материал, из которого ваша творческая индивидуальность строит душу сценического образа» [4, с. 247].
Итак, творческое «я» актера, «разотождествившись» со своей психикой и телом, став вненаходимым по отношению к ним, создает с их помощью — можно даже сказать, создает ими — душу и тело роли.
Тут собственная психика предстоит актеру не как некая объективная данность, а — не могу найти лучшего определения — как его собственное «психическое тело»****, которому он, как и своему физическому телу, не тождественен и которое, как и физическое тело, он произвольно и ответственно строит, создавая функциональный орган своего сценического творчества.
При всем обилии сугубо актерских профессиональных упражнений Чехов учит сосредоточиваться, в первую очередь, не на том, как сделать что-то на сцене, а на том, каким человеком надо стать для этого. Замечу: создавая что-либо, мы всегда, вольно или невольно, создаем (а порой и разрушаем) самого себя, это невидимое глубинное основание всякого человеческого творчества, но здесь оно вводится в область осознания и произвольного действия.
Говоря об этом, нельзя обойти еще один принципиальный вопрос, который мы не сможем разрешить, но должны отчетливо сформулировать. По отношению к повседневному «я» человека, не вполне отличающего себя от своего тела и тем более от своей психики, творческое «я», которое из вненаходимости управляет и тем, и другим, — не просто другое, но высшее «я».
Не случайно М. Чехов, опираясь на свой внутренний опыт, говорит, что охваченный вдохновением актер находится не «вне себя», а «над собой», то есть его вненаходимость самому себе обретает вертикальное измерение. Из его многочисленных отдельных высказываний можно заключить, что высшее, творческое «я» пребывает вне времени (тезис о вневременной природе человеческого «я» философски обосновывали выдающиеся русские мыслители, в частности, Н.О. Лосский). Спектакль разворачивается во времени, но актер, руководимый своим высшим «я», в каждый момент пребывания на сцене переживает всю роль целиком, от начала до конца. Высшее «я» сверхлично; будучи вовлечено в творческий процесс, оно не только руководит актером, но охватывает и публику, передавая ей его творческие идеи, а ему открывая ее состояние и ожидания, которые на каждом спектакле различны, и т.д. [4, с. 245 и др.]. При этом само в себе оно «неизмеримо больше и богаче тех его проблесков, которые иногда озаряют наше творчество» [там же, с. 325].
Можно было бы квалифицировать все это как причудливый «плод фантазии» одного, хотя бы и гениального в своем деле, человека. Но аналогичный интроспективный опыт открытия в самом себе реально существующего и действенного высшего (творческого, свободного, истинного, лучшего...) «я» тысячекратно и независимо друг от друга описан людьми, творчески одаренными в разных отношениях, и еще более — теми, кто сознательно шел путем духовного саморазвития, путем упомянутого в начале статьи «художества из художеств».
Все это ставит психологию творчества перед выбором: игнорировать данные, не совместимые с привычной исследовательской парадигмой, или занять по отношению к самой этой парадигме позицию вненаходимости и допустить возможность плодотворного диалога между научной психологией и духовно-практическим опытом человечества.
Примечания
* Известно, что этой трудно объяснимой способностью обладал также Ф.И. Шаляпин, а эпизодически и непроизвольно она проявлялась в практике других, не столь великих, но талантливых и преданных своему искусству артистов.
** Один из известных писателей говорил: «Видя играющего М. Чехова, ты понимаешь, что тело и есть душа».
*** В специальной статье я пытался обосновать следующую мысль: то, что мы называем психикой «вообще», в каждом конкретном случае является неповторимым «психическим телом» уникальной личности — телом, которое, как и физическое тело, человек специализирует в соответствии со своими целями, телом, которое произвольно или непроизвольно создает (или разрушает), телом, ответственным хозяином которого является [3].
**** М. Чехов не считал правильным идти в создании образа «от себя» и обращаться к жизненному опыту: нужно идти от художественного образа как реально существующего, видеть его, внутренне общаться, задавать вопросы — и он покажет, как нужно его «имитировать»… Исключительно интересен в этом отношении его опыт работы над образом Дон Кихота и «общения» с этим персонажем [4, с. 82–84, 99–111]. Учитывая своеобразие личности М. Чехова и его духовно-практического, в частности, антропософского опыта, правомерно задать вопрос, подходит ли и доступен ли предлагаемый им путь для всех или для многих актеров. Чтобы ответить, нужно познакомиться с педагогической практикой Чехова и ее результатами. Во всяком случае, К.С. Станиславский, система которого базировалась на иных принципах, в конце жизни признал, что метод Чехова тоже имеет право на существование.
Литература
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.
- Зеньковский В.В. Проблема психической причинности. Собр. соч. Т. 3. — М.: Русский путь / Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, 2011.
- Мелик-Пашаев А.А. «Психика» или «Психическое тело» человека? // Культурно-историческая психология. 2013. №3. С. 31–36.
- Чехов М.А. Литературное наследие. В двух томах. Т. 2. — М.: Искусство, 1995.
Источник: Психология. Литература. Театр. Кино: коллективная монография / Психологический институт Российской академии образования, Литературный институт им. А. М. Горького; под общ. ред. Н.Л. Карповой; редкол.: К.В. Миронова, Н.А. Борисенко, С.Ф. Дмитренко. — М.: Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА). — 432 с.
Серия коллективных монографий «Психология в диалоге с литературой, театром, кино» представлена на Национальном конкурсе «Золотая Психея» в номинации «Книга года по психологии».

.jpg)


.jpg)




























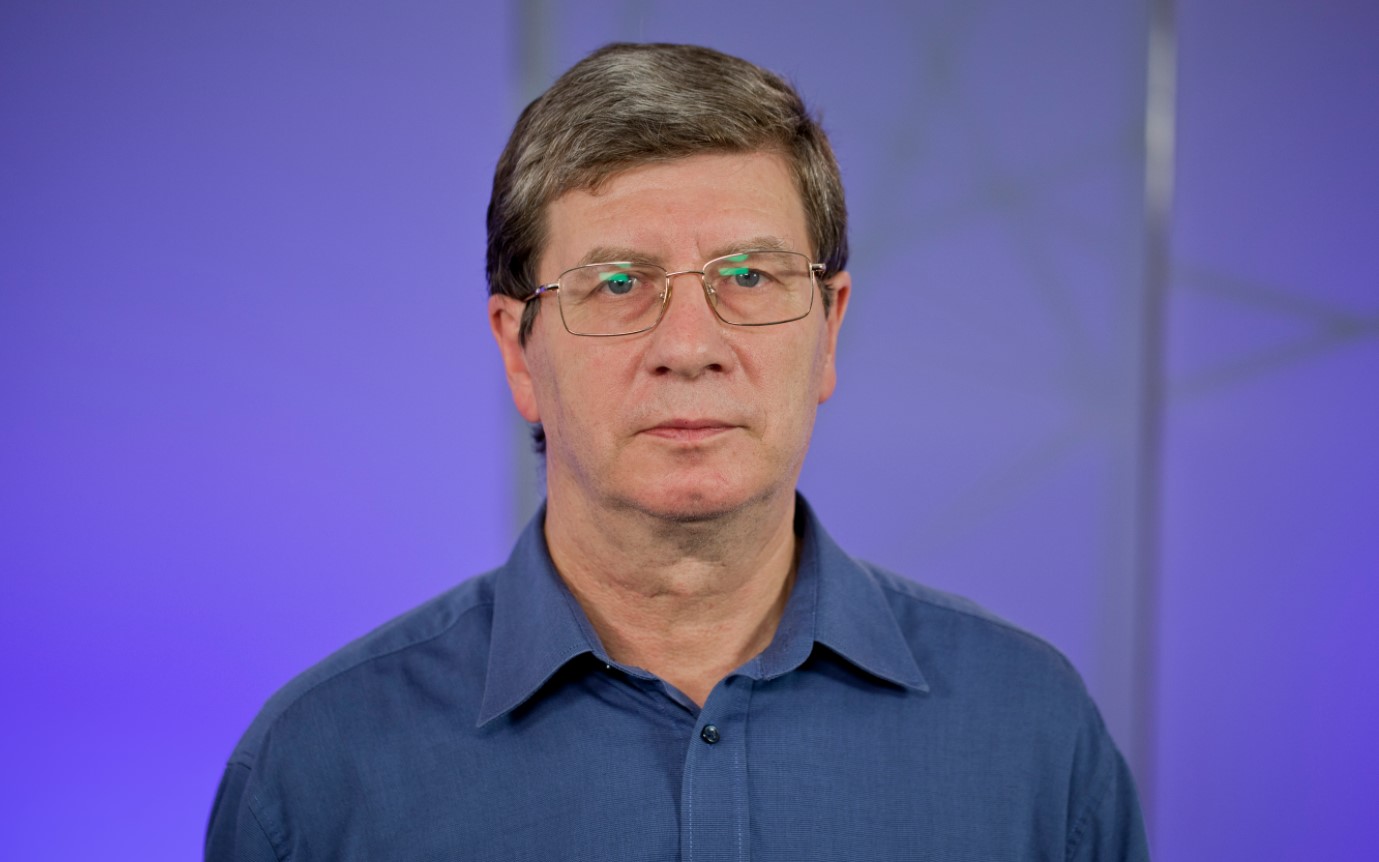
























Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать