
Вниманию читателей «Психологической газеты» предлагается сокращенная версия. Статья с развернутым изложением лекции будет опубликована в октябрьском номере журнала «Образовательная политика» (2020, №3). Видеозапись лекции проф. Е.Н. Ивахненко, прочитанной в рамках проекта философского факультета МГУ «Философия хрупкого мира», предлагается для просмотра в конце страницы.
Почему мы называем мир хрупким? Как оказалось, что научные открытия и стремительное развитие технологий вовсе не избавили нас от «черных лебедей»? То, что происходило с нами в эти весенние месяцы 2020-го, напоминает покушение на наши представления об устойчивости, надежности и предсказуемости мира, в котором мы живем. Все, что было призвано гарантировать устойчивое развитие — общественные институты, экономика, образование, наука, медицина, — в какой-то момент демонстрируют бессилие или, того хуже, превращаются в разновидность угрозы.
Сегодня мало кто сомневается в том, что нашему и последующим поколениям предстоит жить во все более усложняющемся и все более непредсказуемом мире. В настоящей лекции предполагается бросить взгляд на ситуацию роста неопределенностей с двух «пригорков» — классической простоты и неклассической сложностности (запутанности). Мой выбор в пользу «расставания с простотой». Но что это означает? — Мы должны повернуться лицом к тем способам осмысления феноменов хрупкости и неопределенности, которые с разных сторон отстраивали интеллектуалы на рубеже столетий, уходящего ХХ-го и вступившего в свои права XXI-го.
Когда мы сталкиваемся с чем-то сложным и запутанным, то будучи не в состоянии его прояснить, мы испытываем тревогу. Сам же факт такого столкновения представляется как нечто нежелательное, несущее в себе в одних случаях загадку, в других — угрозу, а чаще всего — то и другое одновременно. Другое дело, когда ситуация хорошо обыгрывается нашей мыслительной способностью. В этом случае ее механизм, как и последствия ее развития, вполне предсказуемы, а значит у нас есть возможность избежать неприятностей. Сложность, будучи разгаданной, как будто должна обернуться во что-то понятное и простое. Как же иначе? Поскольку оно сложное, постольку и должно состоять из простых элементов. Так и есть, расхожее представление о СЛОЖНОСТИ, которое разделяет большинство людей, не искушенных жизненным опытом, знакомством с философской и научной литературой, противопоставляется ПРОСТОТЕ.
На первом шаге рефлексии предпочтение, как правило, отдается простоте, тогда как в сложности усматривается намек на «с-ложность», то есть на нечто ложное, искажающее простую и незамутненную истину. Идеалом, при таком подходе, становится простое и доступное объяснение чего бы то ни было. Отсюда, видимо, «будь проще и люди к тебе потянутся». Правда, мне ближе другое высказывание, согласно которому простота в иных случаях может стать «хуже воровства».
Но сложность является в разных обличиях. Может случиться так, что мы сталкиваемся с обстоятельствами (ситуациями, объектами), которые эволюционируют и всегда на шаг впереди нашей способности дать четкое и окончательное заключение в отношении сути происходящего. Кажется, что ситуация каждый раз ускользает из-под контроля и не позволяет управлять ею. Схожую проблему образно передал Александр Секацкий: вот мы разгадали наконец-то шифр, открыли дверцу сейфа, а там другая дверь и записка: «Извините, но шифр изменился». В этом случае ситуация встречи со сложностью опознается по признакам эволюционирующего объекта: мы как будто находим объект «таким, какой он есть на самом деле», но, включив в себя наше вмешательство, он переходит в другое состояние. Словом, объект изменяется и эволюционирует по мере того, как мы применяем инструменты для его исследования, пытаемся выразить его конечную сущность и подчинить своим намерениям.
Наша способность, до сих пор исправно работавшая и, как нам казалось, дававшая четкие объяснения и предсказания, оберегавшие нас от неприятностей, — весь этот наработанный жизнью опыт в данных обстоятельствах, дает сбой.
Довольно часто и особенно с возрастом мы обнаруживаем мир, в котором мы хорошо обустроились, именно таким — хрупким, непредсказуемым, опасным, кризисным… Как же так?
Вот человечество накапливало в течение долгих лет интеллектуальный опыт для того, чтобы лучше «познать мир», сделать его предсказуемым. Но почему-то непредсказуемости и хрупкости во всем, что происходит вокруг нас, становится только больше. Такие случаи часто подаются в образе неожиданно прилетевшего «черного лебедя», т.е. наступления события, вопреки предсказаниям, опирающимся на весь предшествующий опыт, личностный и общечеловеческий.
Чтобы пояснить сказанное, необходимо обратиться к более крупным историческим формам осмысления простоты и сложности, которые по масштабу и способу циркуляции в научном дискурсе ближе к эпистемам Мишеля Фуко, а по своей принудительной силе — к парадигмам Томаса Куна.
Французский социолог, философ и исследователь мысли Мишель Фуко подсказал нам, как смотреть на проблемы через оптики тех дискурсов, которые сменяли друг друга в своем доминировании в течение последних пятисот лет европейской истории. Здесь важно с доверием отнестись к его мысли, согласно которой эти крупные исторические дискурсивные формы (он их называет эпистемами) имеют принудительный характер по отношению к мышлению людей, проживающих в эпоху их утверждения и господства. Включая в свое изложение понятие «парадигма», я вкладываю в него предложенный Э. Мореном смысл, согласно которому, «парадигма состоит из своего рода чрезвычайно сильных логических отношений между главными понятиями и … ключевыми принципами» [1, с. 142–143.]. Эти два понятия — эпистема и парадигма — помогут нам навести резкость на оптиках простоты и сложности.
Парадигма простоты (ПП) vs парадигма сложности (ПС)
ПП своим происхождением обязана классическому естествознанию. Неотъемлемыми характеристиками истинности идеи здесь являются: порядок, отчетливость, ясность, вычислимость, предсказуемость и т.п. Декарт в своем учении о методе дает рекомендации, как «направлять разум» и достигать достоверности во всяком познании: разделять каждую проблему на элементарные части для ее разрешения и располагать свои мысли — от простого к сложному. Иначе говоря, то, что представляется сложным, в ПП воспринимается как сложенность, когда свойство целого составляется из суммы свойств его частей. Поэтому требование к познанию чего-либо с XVII в. включало разделение целого на части (желательно на элементарные) и установление связи между частями посредством функции, уравнения или алгоритма.
На этом основании стала воспроизводиться модель осмысления всего мира как механического устройства. Мир, по представлениям Декарта, уподоблен «большим часам» или «заводной игрушке» [2], где каждый винтик или шестеренка выполняет строго отведенную ему функцию. Эпоха классического естествознания установила торжество принципа определенности. Это — полная описуемость объекта, стабильность (повторяемость во времени) и согласие «не учитывать» другие возможности смыслов.
Таким образом, XVII в. открывает и объясняет порядок во Вселенной и всеми своими возможностями стремится изгнать беспорядок и хаос путем редукции множества наблюдаемых явлений к нескольким законам или принципам. Мир хоть и представляется полным загадок и чудес, однако, эти загадки как будто стали в очередь, чтобы в ближайшей или отдаленной перспективе быть разгаданными. Исайя Берлин подвел своеобразный итог ПП в естественных науках Нового времени: истина одна, а неистин может быть сколько угодно много; должно существовать одно и только одно решение любой научной проблемы; верное решение одной проблемы не может сталкиваться с верным решением любой другой. Все истины должны быть логически совместимы [3].
ПП оказалась чрезвычайно плодотворной научной интуицией, так как на первом этапе работал принцип «упрощения во благо». На протяжении 200 лет она способствовала открытию основных законов классической физики.
Достижения классического естествознания сложили представления об исключительной устойчивости мироустройства. Сама физика как наука представлялась близкой к своему завершению.
Уверенность ученых на этот счет порой порождала курьезы, как это произошло в 1874 г. на встрече 16-летнего Макса Планка с авторитетным профессором Мюнхенского университета Филиппом фон Жоли. Планк попросил тогда совета, стоит ли ему посвятить себя музыке и филологии (где он также проявлял незаурядные способности) или же заняться изучением физики и математики. Маститый профессор не посоветовал талантливому юноше заниматься теоретической физикой и высказал сомнение в возможности каких-либо новых открытий в этой области, поскольку считал, что в ней практически все фундаментальные проблемы решены. «Есть, правда, — походу заметил он, — два маленьких облачка на чистом небосклоне теории: одно из них — не совсем понятно, что творится с измерением скорости света, другое — не совсем ясна задача с излучением абсолютно черного тела». Совсем немного времени понадобилось, чтобы эти два «маленьких облачка» породили настоящий ураган в науке — специальную и общую теории относительности А. Эйнштейна и квантовую теорию, в создании которой основополагающую роль сыграет сам Планк.
Однако на рубеже XIX–XX вв. постепенно стало проясняться, что мир вовсе не является устойчивым в физическом смысле. Но если в передовой науке того времени наметился очевидный поворот в сторону ПС, то ПП со всеми ее атрибутивными установками продолжала свое победное шествие в других областях человеческой деятельности. Классические идеалы ПП только утверждались в качестве образца решения проблем, возникающих в самых различных сферах — управлении, политике, образовании и др. Что, собственно, произошло? Попытаемся ответить на этот вопрос, для чего вернемся к сопоставлению динамик эпистем Фуко и парадигм Куна. Если сказать совсем просто, то в научном мире исследовательская парадигма изменилась, а эпистема осталась прежней, подтвердив в очередной раз свою консервативность. Словом, инерция эпистемы только набирала ход. В то же время и на этом фоне происходил беспрецедентный прорыв в естествознании, который с позиций ПП не только не мог бы произойти, но и не мог быть даже понят.
Из различия между сменой научных парадигм и консервативностью эпистем вытекает одно важное следствие. Его суть в следующем: вот вы привели неопровержимые научные аргументы — мир сложный, неустойчивый, хрупкий, неопределенный… — и ваш собеседник с этим согласился. Возможно, он даже готов продолжить вашу аргументацию, опираясь на собственную научную базу. Но следует ли из всего этого, что ваш успешный образовательный диалог приведет к тому, что эпистемологическую матрицу вашего собеседника удалось сколько-нибудь переформатировать? Скорее всего, эта матрица не будет даже поколеблена. Дело в том, что упрощенные обобщения залегают в самых глубинных слоях нашей мыслительной способности. Кроме того, в нашем повседневном опыте мы по преимуществу сталкиваемся с ситуациями, для разрешения которых достаточно простых алгоритмических действий. Поэтому становится критически важным само по себе различение, ситуационное и контекстуальное, между задачами, требующими для своего решения четкого отслеживания причинно-следственных связей, эмпирических закономерностей, подбора алгоритмов и т.д., и задачами, решение которых возможно только с привлечением стратегий взаимодействия со сложностью, безостановочно эволюционирующей и всегда незавершенной. Сложностное мышление вовсе не отвергает ясность, порядок или детерминизм. Однако делает их недостаточными в тех случаях, когда мы осознаем, что предсказать последствия нашего воздействия на объект, а точнее — взаимодействия с объектом, не представляется возможным в принципе. Сложить представление о том, как рождалась ПС и позже на ее основе — эпистема сложностного мышления, может помочь краткое обращение к истории смены научной рациональности, которая происходила на протяжении двух столетий.
/.../
Вернемся в XIX в. и бросим взгляд на то, как ПП, оставленная в наследство от эпохи Просвещения, осмыслялась в философии. Для демонстрации возьмем только два обобщенных направления философской мысли того времени, позитивизм и диалектику.
Позитивизм Огюста Конта и Эрнста Маха продемонстрировал настойчивую попытку перевода ПП в режим единой и единственной философии. Логический позитивизм 20–30 гг. ХХ в. довел эту попытку до финального завершения, снабдив ее достижениями математической логики. Неудивительно, что в период наивысшей популярности «Венского кружка» на претензии его лидеров осуществить «поворот в философии» [4] уже были наложены известные ограничения со стороны теоремы Курта Геделя «О принципиальной неполноте» любой формальной системы (1931). На этом позитивизм завершил свое шествие по миру. На смену третьего поколения позитивистов не пришло никакое другое.
В отличие от позитивизма, феномен диалектики в немецком идеализме XIX в. явно направлен на преодоление ПП, как и философии Просвещения в целом. Гегель противопоставляет диалектическую логику логике формальной, торжествовавшей в качестве закона мышления со времен Аристотеля. У читателя, взявшего на себя труд погрузиться в чтение гегелевской «Науки логики» или же проследить движение товара в первом томе «Капитала» Маркса, вовсе не сложится мнение, что они имели дело все с той же ПП. Диалектика разгоняет мышление, выводит его за рамки метафизики и механистических представлений о детерминации событий и явлений… — выводит, но там его и оставляет. И все же, диалектика — это шаг в направлении отказа от того, чтобы смотреть на мир как на заданную кем-то или чем-то конструкцию с вписанной в нее заклишированной сущностью, которая только и ждет своего открытия, как Америка ждала своего Колумба.
Первая по-настоящему успешная атака на ПП была осуществлена уже во второй половине XIX в. в естествознании, со стороны второго начала термодинамики (Н. Л. С. Карно, Р. Клаузиус, У. Томсон). Впервые было узаконено вторжение беспорядка в физическую Вселенную — любое использование энергии ведет к деградации этой энергии (увеличению энтропии). Эта тема во второй половине следующего века получит продолжение в рамках неравновесной термодинамики, где будет сделан еще один шаг в сторону ПС: хаос во Вселенной является полноправным творцом ее возникновения и всех последующих ее изменений.
Примерно с 20-х гг. ХХ в. ПП в естествознании начала сдавать одну позицию за другой. В это время во весь рост заявила о себе микробиология и генетика, где в открытии мутаций (отклонений, закрепляющихся в геноме и передающихся по наследственной цепочке) случайность заняла свое законное место применительно к эволюции видов. В те же годы завершается оформление квантовой теории, согласно которой понятие элементарной частицы утрачивало прежний смысл как дискретной и локализованной в пространстве сущности. Теперь это уже неясная размазанная сущность, которая не может быть изолирована от других частиц в прежнем классическом смысле. Но если к середине ХХ в. смена ПП в передовых научных областях в целом осуществилась, то эпистема (напомним, — в ее социально-гуманитарном наполнении) свои позиции сдавала куда медленней, продолжая во многих случаях отражать атаки со стороны естественнонаучной ПС.
И все же интерпретации положений квантовой механики в 30-40-е гг. постепенно проникали в эпистемологические исследования и, что еще более важно, — в разработку новых подходов в теории систем, организации и управления. С позиций сегодняшнего дня можно заключить, что теория систем и теория организации служили своего рода адаптером между утвердившимися парадигмальными идеями в естественных науках, приведшими к великим открытиям ХХ века, и нарождающимися подходами в социально-гуманитарном знании.
Особое место в ряду разработок, привносящих ПС в представления о системной организации и управлении, заняла кибернетика. И хотя первые попытки преодоления жестких детерминистских схем в управлении предпринимались в конце XIX — нач. ХХ вв., в целом широкая популярность и признание науки об управлении системами произошло только в середине ХХ в. и связано в первую очередь с именами К. Шенона, Дж. фон Неймана, Н. Винера...
Следующий шаг в направлении ПС был сделан в конце 60-х — сер. 70-х гг. представителями кибернетики второго порядка: У. Матураной, Х. фон Фёрстером и др. Здесь обозначился переход от наблюдения субъекта за системой к теории наблюдающих систем. Субъект, согласно новым концептуальным установкам, утрачивает прежнюю, унаследованную от Декарта трансцендентальную позицию. Он — наблюдающая система за другими системами. С другой стороны, любая система, если она располагает признаками самоорганизации и границами, будь то живая клетка (организм, иммунная система и т.д.), социум или человек, также является наблюдателем.
Параллельно с кибернетикой второго порядка, в те же 60–70-е гг., создавались основы синергетики (Г. Хакен) и разрабатывался математический аппарат неравновесной термодинамики (И.Р. Пригожин). Неравновесная термодинамика достаточно сложная область физико-математического знания. Однако, благодаря доступному изложению ее принципов создателями, их коллегами и последователями, это направление в своей популярной версии перекочевало на дискуссионные площадки гуманитариев, экономистов и социологов. В рамках этого направления науки хаос, как уже было сказано, приобрел значение конструирующего фактора во Вселенной.
Но если физический мир, который мы наблюдаем, не может быть иным, кроме как контингентным и хрупким, то в мире социальных отношений, по мере их усложнения, наметился экспоненциальный рост неопределенностей, рисков и угроз. Вместе с пониманием такого положения дел отпала сама по себе задача составления «Единой истинной» картины мира, которую так стремились воссоздать мыслители Просвещения. И.Р. Пригожин, осмысляя проблему сложности «от существующего к возникающему», писал: «Мир не является ни автоматом, ни хаосом. Наш мир — мир неопределенности, но деятельность индивидуума в нем не обязательно обречена на малозначимость» [5]. Последнее замечание для нас особенно важно, и мы к нему еще вернемся.
Что изменилось в понимании соотношения простоты и сложности на рубеже ХХ — XXI вв.
Осмысление проблемы сложности в современной русскоязычной литературе потребовало терминологической корректировки. В.И. Аршинов и В.Г. Буданов в своих статьях переводят английское слово «complexity», как «сложностность» [6; 7]. Слово «комплексность», как будто созвучное «complexity», по инерции ориентирует на агрегативные и композитные коннотации и тем самым переносит сложность в силовое поле ПП. В англоязычной литературе ведется полемика по поводу смыслового наполнения и различения «complexity». Так, «complicacy» ближе по значению к русскому слову «запутанность», а «entanglement» — к «запутыванию». Сложностные проблемы принято разделять на «wicked problems» — «кусачие проблемы» («злые, опасные, свирепые») и «tame problems» — «проблемы прирученные» («ручные, банальные, укрощенные») [8]. Прирученные проблемы — это проблемы в принципе решаемые имеющимися интеллектуальными, техническими и какими-либо иными средствами. Для решения «кусачих» («злых») проблем необходимо в каждом случае искать и находить новые («для данного случая») способы и инструменты. Таковые не только не могут быть взяты из перечня решения «прирученных» проблем, но в большинстве случаев — из прежде разрешенных проблем «кусачих». Решения и инструменты для сложностных проблем всегда нужно создавать заново. Таковые всегда уникальны и не поддаются тиражированию для последующего использования всеми, кто пожелает.
Далее в своей лекции я буду использовать термин «сложностность», применительно к собственной аргументации.
Итак, СЛОЖНОСТНОСТЬ. Здесь мы можем рассмотреть некоторые подходы к выявлению признаков искомой сложностности.
Андрей Николаевич Колмогоров и американский математик Грегори Чейтин независимо друг от друга сформулировали правило определения сложности (читай — сложностности) объектов, представляющих последовательность дискретных элементов или символов. Степень сложности, по Колмогорову, определяется степенью сжимаемости наблюдаемой последовательности символов — возможности дать ей укороченное (сжатое) описание. Верхний предел в данном случае будет соответствовать понятию «несжимаемой сложности», когда наблюдатель окажется не в состоянии распознать какие-либо закономерности и не сможет построить новый сжимающий алгоритм их сокращенного описания.
Автором теории организации Э. Мореном о сложностности написаны тысячи страниц. Один из характерных признаков таковой он называет эффект эмерджентности, когда появляется такое свойство целого, которое нельзя объяснить суммой свойств его частей. Целостность сложностной организации не может быть редуцирована к своим элементам. Она всегда больше своих частей, но и часть в сложностной организации располагает избыточностью по отношению к целому [9].
Проблематика сложностности получила свое развитие в 70–90-е гг. в рамках широкого направления социологии науки под общим названием «Исследование науки и технологии» (STS — Science and Technology Studies). Особое место здесь занимают работы Б. Латура, М. Каллона, Дж. Ло и др., а также яркой представительницы так называемых «постсоциальных исследований» К. Кнорр-Цетины [10]. Бруно Латур разработал и вынес на обсуждение научной общественности свою акторно-сетевую теорию (ANT — Actor-Network Theory), которая хоть и подверглась критике, все же привнесла новое понимание сложностно устроенного сетевого взаимодействия людей, технологий и объектов в производстве всего того, что привычно мы называем научно-техническим открытием или достижением [11]. Свой вклад в понимание сетевой ризомной (от метафоры ризомы — корневища) сложностности внес широко известный представитель постмодернистской философии Жан Бодрийяр.
В целом же тема сетевой коммуникации породила целый поток научной и научно-популярной литературы, в котором ПП утратила сколько-нибудь значимый исследовательский интерес. И наиболее развитый способ сетевого взаимодействия представлен современной интернет-коммуникацией, где безостановочно и непредсказуемо рождаются инновации — технологические, гуманитарные, социальные. Интернет стал подлинной действующей моделью ПС. Генеративное пространство Интернета явно противопоставляет себя попыткам его упростить или иерархизировать в соответствии с институциональными структурами власти, политической или финансовой. Причем, генеративные системы интернет-пространства таковы, что их «хроническая незавершенность» является основным условием их системной устойчивости и целостности, тогда как попытки внешней регуляции такой системы неизбежно приводят к падению устойчивости и утрате ее эволюционных преимуществ [12]. В конечном итоге, если здесь и имеет место какая-то власть, то это, по определению Кастельса, «власть коммуникации» [13].
Особое место в постижении социальной сложностности занимает немецкий социолог Никлас Луман с его «системно-коммуникативной теорией». По сути Луман в 90-х гг. подвел черту под предшествующем развитием социологических теорий, претендующих на системное описание общества с опорой на ПП. Так, если следовать линейной логике постижения сущности объекта (в данном случае — общества), то неопределенностей, по мере все более глубокого его познания, должно оставаться все меньше. В действительности же все обстоит не совсем так, точнее — совсем не так.
В целом же первые два десятилетия текущего века ознаменовали собой прорыв не только ПС, но, что наиболее примечательно, прорыв эпистемы сложностности. Сложностность в самых различных ее проявлениях стала занимать умы социологов, ученых-гуманитариев, журналистов, финансовых аналитиков, философов, программистов…
Тема сложностности существенно обновила проблематику современных демократий в соответствии с современными политическими реалиями (Д. Дзоло) [14]. Сложностность заняла свое законное место в дискуссиях об искусственном интеллекте, природе сознания (Дж. Серль и Д. Деннет, Р. Пенроуз и др.). М. Деланда, разрабатывая тему «Войны в эпоху разумных машин» [15], раскрывает те сложностные смыслы, применительно к военным действиям, которые несет в себе понятие «ассамбляж».
Наиболее значительный сдвиг в сторону сложностности за последние десятилетия произошел в эволюционной генетике и микробиологии. Еще в 70-е гг. прошлого столетия в работах У. Матураны и Ф. Варелы получило свое развитие понятие аутопойезиса*. Эта концепция единства жизни и познания («нейрофизиологический вариант эволюционный эпистемологии») повлияла на теоретические разработки в самых разных областях и направлениях социально-гуманитарных наук. В наши дни о сложностности взаимодействия генетической наследственности и среды можно многое почерпнуть из книг отечественных и зарубежных авторов: А.В Маркова («Рождение сложности»), Р. Докинза («Расширенный фенотип») и др.
Широкую известность в интеллектуальных средах сегодня завоевали две из переведенных на русский язык книг Н. Талеба с их провоцирующими дополнениями в названиях — «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (2007) [16] и «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» (2012) [17]. Возможно, причину столь широкой популярности книг Талеба объясняет основной посыл автора: не то, чтобы научиться выживать, а то, чтобы усвоить секрет процветания в мире разрастающихся неопределенностей.
Наметился в этом отношении прорыв и в отечественной экзистенциальной психологии (психологии личности). В работах А.Г. Асмолова, Е.Д. Шехтер, А.Н. Черноризова, М.С. Гусельцевой и др. обозначился переход от постулирования сложностности к глубокому предметному ее исследованию в рамках историко-эволюционного подхода. Авторы констатируют, что «“простота” присуща системам, ориентированным на неизменность и консервативность, а “сложность” характеризует трансформирующиеся структуры, ориентированные на непредсказуемое будущее» [18; 19]. Эта точка зрения практически совпадает с позицией Н. Лумана, согласно которой стабильность в современном сложноустроенном обществе поддерживается большим числом девиаций — отклонений от нормы. Здесь же поднята тема избыточности элементов в эволюции сложностности, поднятая еще в работах Г. Бейтсона [20], К. Шенона [21], Г. Николис, И. Пригожина и др. Однако российские психологи идут дальше в этом вопросе. Они различают «специализированную» и «универсальную» избыточности. «Специализированная» избыточность по сути являет собой адаптационный потенциал, который выполняет функцию сохранения устойчивости уже существующего порядка. Она представляет собой запас ответов системы на алгоритмически просчитываемые (в принципе предсказуемые) вызовы извне. Другое дело избыточность «универсальная», обладающая свободными валентностями. Ее функциональность аналогична функциональности незадействованных фрагментов генома. Таковая содержит в себе скрытый мультипотенциал («преадаптационный потенциал»), который может представляться, применительно к существующим условиям, бесполезным или даже мусорным (неадаптивным). Однако в кризисных ситуациях именно этот потенциал включает в действие прежде неадаптивные (преадаптивные) феномены. Тем самым, универсальная преадаптивная избыточность сложностной системы является условием, определяющим способность этой системы вырабатывать уникальные ответы на столь же уникальные и непредсказуемые вызовы.
Преадаптивный потенциал находит свое применение в сочетании с нацеленностью на новизну, на креативный поиск новых идей и возможностей.
Все это важно применительно к стратегиям построения образования, в первую очередь — университетского. Здесь критическую значимость приобретает формирование «универсальной» избыточности в условиях быстрой и неконтролируемой смены запросов общества и экономики на профессии. К аспекту сложностности в университетском образовании я вернусь в заключении лекции.
В целом количество авторов и их работ по данной проблематике необъятно и экспоненциально возрастает с каждым годом. На общем фоне исследований по теме сложностности выделяются блестящие работы российских авторов: С.П. Курдюмова (1928–2004), Д.С. Чернавского (1926–2016), а также успешно продолжающих свое интеллектуальное подвижничество В.И. Аршинова, Г.Г. Малинецкого, Е.Н. Князевой, В.Г. Буданова, В.Е. Лепского и др. Интересно, что все они исходно получили качественное естественнонаучное, инженерное или математическое образование, но в ходе своей исследовательской деятельности нашли себя в философии сложностности.
И все же, что таится за понятием «сложностность»?
Поставив вопрос таким образом, невозможно уйти от прямых ответов на него. Попробую это сделать, включая и свой собственный преподавательский опыт коммуникации.
Я не раз встречался с попытками рассказать мне о сложности просто, в терминах простоты. И сам пытался это сделать. Чаще всего эти попытки заканчивались «ничейным результатом» — в том смысле, что ни одна сторона качественно не эволюционирует в своих представлениях в такой дискуссии. Видимо, сколько-нибудь компетентное включение в подобную проблематику требует переформатирования некоторых исходных познавательных представлений.
Обращение к проблеме сложностности вовсе не предполагает выработку чего-то похожего на инструкцию «как совладать со сложностностью». Рецепты хоть и возможны, но они не занимают то место, которое отведено алгоритмам в решении линейных детерминистских задач. Скорее практики взаимодействия со сложностностью делают нас осторожными и внимательными. К тому же осознание сложностности убеждает в невозможности тотального знания, равно убеждает в невозможности избежать неопределенности в рождении нового — в природе, социуме и в жизни в целом.
Наша обреченность на встречу с неопределенностью делает нас более чуткими к новизне, а наше мышление избавляет от «неповоротливой» абсолютной уверенности…
Таким образом, сложностное мышление само по себе не решает проблем путем заполучения чего-то, напоминающего «сложностный алгоритм» или «трансформационную функцию», которые стоит держать про запас, а при случае распорядиться по назначению. В него вшито нечто, напоминающее памятку, которая, как пишет Морен, гласит: «Не забывай, что реальность меняется, не забывай, что что-то новое может (и будет) возникать» [1, с. 173].
Беря в расчет сказанное, можно сделать еще один важный вывод: сложностность — не объективна и не субъективна, т.е. не относится исключительно к онтологии или психологии, а всегда указывает на определенное коммуникативное взаимодействие между субъектом как наблюдателем и объектом наблюдения, который, будучи системой, также являет собой наблюдателя.
Другим важным условием, которое необходимо упомянуть, является то, что сложностность всегда не найденное, а сделанное или, точнее, сгенерированное рекурсивным взаимодействием** наблюдателя субъекта и объекта наблюдения. В этом отношении наблюдатель такой контекстуальной сложностности разделяет с объектом «поле конструирования», в которое он включен уже самим актом наблюдения. М.С. Гусельцева, отмечая эвристичность и даже таинственность «когнитивной сложности», признается, что углубленное изучение этого понятия подвигает ее к поиску «совершенно иного термина». «Данный феномен, — пишет она, — невозможно свести лишь к интеллектуальным, социальным или личностным характеристикам — по своей природе он представляет из себя синтетический конструкт» [22].
Согласно выше упомянутым установкам кибернетики второго порядка, в данном случае мы имеем дело с теорией наблюдающих систем. Это принципиально иная ситуация по сравнению с картиной ПП, когда наблюдением располагает только субъект, к тому же обладающий, по Канту, привилегированными и непостижимыми (a priori) трансцендентальными когнитивными свойствами.
Следующий тезис звучит так: наблюдатель сложностности, по аналогии с квантовой теорией, сам должен находиться в сложном состоянии, т.е. — быть включенным в контекст усложнения наблюдаемой ситуации. Иначе говоря, субъект должен быть сопряжён с эволюционирующими в направлении сложности средами. Если же интеллектуальный опыт субъекта не готов к такой встречи, то он неизбежно будет подвергнут соблазну редуцировать сложностность, то есть — при первой возможности переводить ее в режим упрощения.
Почему университет должен порождать неопределенности и учить нас с ними жить
В заключение я хотел бы фрагментарно навести оптики простоты и сложностности на «хрупкую» ситуацию в отечественном образовании, в частности, на один из его аспектов — организацию обучения в российском университете. Для краткости выделю лишь одну важную, на мой взгляд, точку зрения, которая была высказана на инаугурационной лекции (25 октября 1997 г.) Рональдом Барнеттом, профессором Института образования Лондонского университета. Текст лекции под общим названием «Осмысление университета» чрезвычайно важен в контексте всего вышесказанного и заслуживает того, чтобы его читали и перечитывали все, кто регулярно встречается со студентами в университетских аудиториях и лабораториях. В частности, Барнетт констатирует: «Мир, в котором мы живем, давно перестал быть сложным, он сверхсложен. Сверхсложность это такой тип сложности, при котором даже границы понимания мира постоянно проблематизируются. Это степень сложности, при которой нужны новые способы выживания и, по возможности, даже процветания в мире, где все наши теории постоянно проверяются и подвергаются сомнению» [23, с. 51]. Соглашаясь с этим утверждением, нельзя, вероятно, не согласиться и с тем, что такая корпорация знания, как университет, должна быть целиком вовлечена в эту ситуацию.
Фундаментальной характеристикой такого университета является перенос ситуаций неопределенности в учебно-образовательную деятельность. В моделируемой таким образом ситуации преподаватели берут на себя долгосрочные обязательства по отношению к студентам. По определению того же Барнетта, те, кто принимает такую трактовку образования, «должны будут не только справиться со сверхсложностью в собственных умах, но и провоцировать ее дальнейшее усложнение, чтобы вызвать состояние радикальной неопределенности в умах своих студентов, а также научить их тому, как с ней справляться и жить» [23, с. 56].
Организация университетского образования в направлении моделирования ситуаций, стимулирующих развитие поискового мышления у студентов, нуждается в обсуждении всех заинтересованных сторон — преподавателей, администраторов, работников министерства, да и самих студентов, конечно. Конкретно, на мой взгляд, выразил принцип моделирования сложностности и запрос на поисковое мышление Марк Тейлор в своей статье с красноречивым заголовком «Конец университета, каким мы его знаем». «Не делай того, что я делаю; — говорит Тейлор в своем символическом обращении к студенту, — лучше возьми что-то из того, что я могу предложить, и сделай с ним то, что я никогда не мог бы себе вообразить, затем вернись и расскажи мне об этом» [24].
Для тех, кто сегодня погружен в насущные проблемы современного российского вуза, подобная установка может показаться отвлеченной, нереалистичной и даже утопической. И тем не менее, продолжаю на этом настаивать, установка на встречу со сложностностью есть критически важный фактор современного российского высшего образования. И вот еще почему.
На практике мы имеем дело с двумя типами реакции на ситуации нарастающей неопределенности. В одних случаях демонстрируется поиск опоры в ПП, а любая неопределенность воспринимается как что-то исключительно разрушительное и потому требующее немедленного устранения. Первое, что здесь приходит на память, это — обращение к прошлому, где в запасе много старых решений, оберегающих сложившийся статус-кво. Перечень таковых достаточно известен. Это — укрепление управленческой вертикали и единоначалия, стремление осуществлять из единого центра полный контроль всего, что происходит на периферии и т.д. Управленческая модель такого типа если и прогрессирует, то фрагментарно, в целом же она обречена на принятие решений в узком коридоре возможностей и, как следствие, на последовательное понижение конкурентных позиций.
Принципиально иные конкурентные возможности приобретают социумы, в которых нарастание сложностности воспринимается в целом как что-то органичное или хотя бы неустранимое.
В этом случае столкновение с ростом неопределенности хоть и увеличивает риски, в то же время рассматривается как приглашение к поиску инноваций, способов успешного взаимодействия с принципиально новой ситуацией, осмысляемой в рамках ПС.
Отличительной чертой зрелого восприятия сложностного мира также является выработка СТРАТЕГИЙ УСПЕШНОСТИ, на основе которых завоевываются конкурентные преимущества, а включение проблематики сложностности в систему высшего образования (к чему призывал Барнетт четверть века назад) становится решающим фактором преадаптации к будущему [25]. Иначе говоря, системная и организационная сложностность накрывает все общества и народы на планете. Однако те из них оказываются на высоте положения, которые демонстрируют успешность в освоении того, «как с ней справляться и жить». Значение университетского образования в этом вопросе невозможно переоценить. В этой связи принципиально важно, наряду с прочим, кардинальное изменение положения университетов в России в сторону более широкой автономии их образовательной, научной и хозяйственной деятельности.
Перформативный характер коммуникации*** порождает инновации смыслов, которые в своем реально-практическом продолжении умножают непредсказуемые последствия в обществе, делают любой устоявшийся порядок в нем хрупким и изменчивым. И к встрече с таким «всяким будущим» следует хорошо подготовиться, чтобы в очередной раз, когда оно наступит, не оказаться в положении наивного индюка из старой притчи.
Литература:
- Морен Э. О сложностности. М.: Институт общегуманитарных исследований. 2019.
- Погоняйло А.Г. Философия заводной игрушки, или Апология механицизма. СПб: Изд-во СПб университета. 1998. 164 с.
- Берлин И. Два понимания свободы // Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 153.
- Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избранные тексты. М.: Изд.-во МГУ, 1993. С. 28–33.
- Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках. М.: Наука, 1985. С. 254.
- Аршинов В.И., Буданов В.Г. Парадигма сложностности и социогуманитарные проекции конвергентных технологий // Вопросы философии. 2016. № 1. С. 59–70.
- Буданов В., Аршинов В., Лепский В., Свирский Я. Сложностность и проблема единства знания. Выпуск 1. К стратегиям познания сложности. М.: ИФ РАН, 2018. 105 с.
- Аршинов В.И., Свирский Я.И. Кое-что о сложностности. Послесловие переводчика и редактора // Морен Э. О сложностности. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2019. С. 260–282.
- Морен Э. Метод. Природа Природы. M.: Прогресс-Традиция, 2005. 464 с.
- Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах // Социология вещей. Сборник статей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 267–306.
- Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. 414 с.
- Асмолов Г.А., Асмолов А.Г. Интернет как генеративное пространство: историко-эволюционная перспектива // Вопросы психологии. 2019. № 4. С. 21.
- Кастельс М. Власть коммуникации: учебное пособие. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 564 с.
- Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистический подход. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. 320 с.
- Деланда М. Война в эпоху разумных машин. Екатеринбург — М.: Кабинетный ученый; М.: Институт общегуманитарных исследований, 2014.
- Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: Азбука, 2016.
- Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: Азбука, 2016.
- Асмолов А.Г., Шехтер Е.Д., Черноризов А.М. Сложность как символ познания человека: от постулата к предмету исследования // Вопросы психологии. 2020. № 1 (Т. 66). С. 3–18.
- Асмолов А.Г., Шехтер Е.Д., Черноризов А.М. Родословная «жизни сообща»: еще раз о скачкàх эволюции // Mobilis in mobili: личность в эпоху перемен / Под общ. ред. А. Асмолова. М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. С.101–118.
- Бейтсон Г. Разум и природа. Неизбежное единство. М.: КомКнига, 2007. 248 с.
- Шенон К. Математическая теория связи // Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 243–332.
- Гусельцева М.С. Когнитивная сложность: понятие и метафора // Гусельцева М.С. Эволюция психологического знания в смене типов рациональности (историко-методологическое исследование): монография. М.: Акрополь, 2013. С. 56.
- Барнетт Р. Осмысление университета // Alma Mater. Вестник высшей школы. 2008. №6. С. 51.
- Taylor M.C. End the university as we know it // The New York Times. 2009. April 26.
- Аттаева Л.И., Ивахненко Е.Н. Изменение стратегий осмысления сложного: от метафизики и целерациональности к коммуникативной контингентности // Известия Смоленского государственного университета. 2011. № 4 (16). С. 354–366.
* Аутопойезис (от греч. αυτος — сам, ποιησις — создаю, произвожу, творю) буквально означает само-строительство, само-производство или воссоздание себя через себя самого.
** Рекурсивный процесс — это процесс, где продукты и следствия являются одновременно причинами и производителями того, что их производит.
*** От англ. performance — исполнение, представление, выступление, публичное действие.
Видеозапись лекции проф. Е.Н. Ивахненко, прочитанной в рамках проекта философского факультета МГУ «Философия хрупкого мира»:

.jpg)






.jpg)










































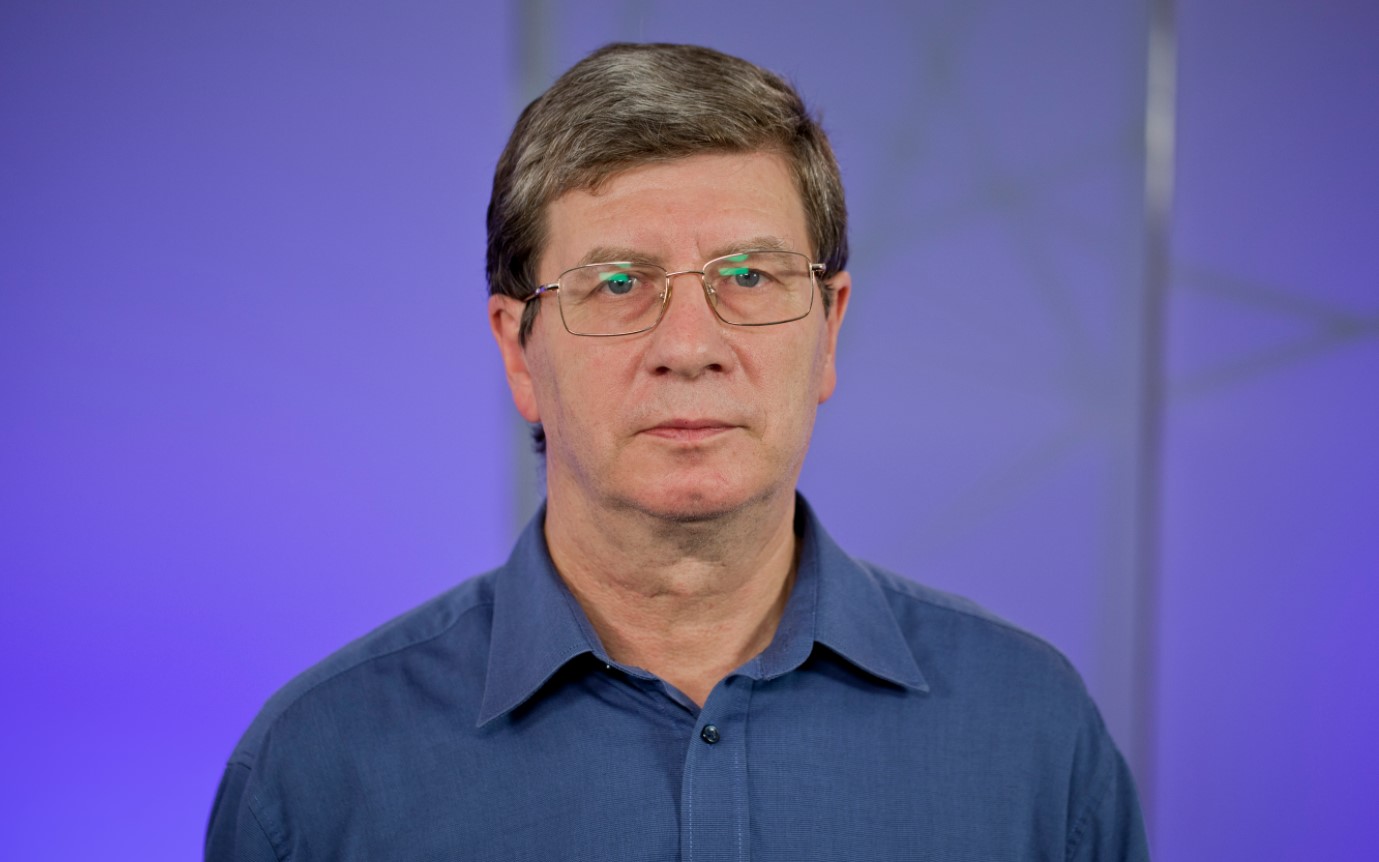






Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать