
18–19 июня в «Сириусе» состоялась международная научно-практическая конференция «Инклюзия XXI», на которой выступила директор Института коррекционной педагогики (ИКП) Татьяна Соловьева. Ее доклад был подготовлен по следам поручения президента Владимира Путина провести комплексный анализ системы общего и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и представить предложения о совершенствовании этой системы.
Среди проблем директор ИКП назвала рост числа общественных родительских организаций при снижении численности экспертов; расширение коммерческого сектора предоставления образовательных услуг в сфере коррекционной педагогики при дефиците кадров в госучреждениях; установку на инклюзивность в образовании без внимания к ресурсам и возможностям регионов, а также без учета потребностей самих детей с нарушениями интеллекта, расстройствами аутистического спектра (РАС), с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР).
В ходе выступления Соловьева предложила меры для решения указанных проблем. Среди них — ввести обязательную оценку российскими экспертами иностранных методик обучения, которая сейчас не предусмотрена; ограничить влияние некоммерческих организаций на образовательный процесс без согласования с государственными и профессиональными структурами, что должно позволить соблюдать стандарты качества в образовании.
В ответ на эти заявления родительские сообщества, связанные с проблемами детей-инвалидов, направили петицию, адресованную различным государственным инстанциям, ответственным за исполнение поручения президента. Представители НКО выразили тревогу по поводу различных тезисов доклада Соловьевой, в частности, предложений лишить родителей права выбора формы образования и образовательной организации, возврата исключительно к специальному образованию и дискредитации инклюзивного образования, которое по мнению подписантов, уже доказало свою эффективность за эти годы. Также, по мнению авторов петиции, «докладом производится атака на институты гражданского общества, создающая предпосылки для ограничения деятельности НКО и отрицающая вклад родительских организаций в развитие системы образования лиц с ОВЗ». В связи с этим организации просят в том числе провести независимую экспертизу доклада ИКП; разработать и принять национальную стратегию развития инклюзивного образования с проведением широкого общественного обсуждения; обеспечить участие родительского сообщества в принятии государственных и практических решений в сфере образования детей с ограниченными возможностями.
Представители Минпросвещения поспешили опровергнуть опасения представителей родительской общественности.
Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская заявила РБК, что на конференции обсуждались подготовленные ИКП рабочие предложения, которые не были согласованы министерством. Она подчеркнула, что инклюзия остается значимым инструментом обучения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями, но вместе с тем создание специальных условий получения образования — обязательная, требующая постоянного внимания и ресурсов задача.
Мы попросили прокомментировать эти события первого зампреда комитета Госдумы Олега Смолина, который давно специализируется на проблемах детей-инвалидов, зная о них не понаслышке: свое детство он провел в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей.
— Наверное, лет 15 назад в депутатской почте преобладали письма с просьбами родителей определить детей в инклюзивную школу.
В последнее время приходят письма, в которых родители выражают желание обучать детей в коррекционной школе и жалуются на отсутствие таких возможностей.
Такая тенденция не случайна. Лаборатория по изучению детей с ограниченными возможностями здоровья Российской академии образования, научным руководителем которой я являюсь, проводила большое исследование с помощью Всероссийской ассоциации родителей детей-инвалидов (ВАРДИ). Мы проанализировали около 3000 анкет и пришли к интересным выводам.
Психолого-медико-педагогические комиссии в регионах объясняют родителям, что каждая школа должна создать условия для инклюзивного образования детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья всех категорий.
Хочу заметить, ни в одной стране нет такой ситуации, когда бы каждая школа создала все условия для инклюзивного образования всех детей, всех нозологий (различных заболеваний и нарушений развития).
Теоретически можно создать доступную среду с огромными затратами. Практически невозможно в каждой школе подготовить педагогов, знающих, скажем, жестовый язык или систему Брайля, или умеющих работать с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Поэтому, когда мне доводилось знакомиться с ситуацией в одном из самых продвинутых в плане обучения детей ОВЗ городе — Лондоне, там родителям детей с нарушениями зрения и слуха рекомендовали обращаться в ресурсные школы, где созданы специальные условия.
И это реальный подход. Поэтому, с моей точки зрения, обе системы образования, инклюзивная и коррекционная, в России должны развиваться параллельно.
Мы проводим большое серьезное исследование, надеемся, когда-нибудь мы сможем его завершить, по поводу того, в каких условиях дети получают более качественное образование — в специализированных коррекционных школах или в инклюзивных. Гипотеза, пока еще не доказанная социологией, но подтвержденная опытом других стран, показывает, что результат зависит от нозологии. Например, у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но с сохранным интеллектом, обучающихся в инклюзивных условиях, большой разницы в качестве образования по сравнению с обычными детьми, по нашим предположениям, не будет. У детей с нарушениями зрения и слуха разница будет значительная. Коррекционное образование для таких детей значительно более эффективное и качественное по сравнению с образованием инклюзивным или псевдоинклюзивным.
Дело в том, что в России во многом инклюзия была подменена псевдоинклюзией. Детей поместили в обычные школы, не желая или не будучи в состоянии создать для них необходимые специальные образовательные условия. Кто-то думал, что на этом можно сэкономить и ошибся, потому что в расчёте на одного ребёнка создать условия в коррекционной школе гораздо дешевле, чем в расчёте на одного ребёнка в инклюзивной.
То есть в коррекционной школе вы обучаете детей по классам, группам, обучаете всех педагогов по одной конкретной нозологии. А в инклюзивной школе, которую посещают всего несколько детей с разными заболеваниями (например, с расстройством аутистического спектра, слепых, глухонемых и так далее), специальные условия необходимо создавать для каждого в отдельности. Даже если там будут только дети с нарушениями зрения, вам все равно придется всех педагогов учить системе Брайля. Если там будут дети с нарушениями слуха, вам придется всех педагогов учить жестовому языку. А у нас сейчас даже в коррекционных школах для глухих не все учителя владеют жестовым языком.
В свое время Всероссийское общество глухих обратилось в президентскую комиссию по делам инвалидов, и рабочей группе, которой я руководил, поручили рассмотреть этот вопрос. Оценка всероссийского общества глухих была предельно жесткая: образование глухих детей сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. И можно найти тому фактические доказательства, кроме тех, которые приводило общество глухих.
Например, в конструкторском бюро, которым руководил академик Сергей Королев, был целый отдел, состоявший из инвалидов по слуху. Они разрабатывали систему ракетных кораблей для Советского Союза. Сейчас ничего подобного нет и близко.
Другой пример. На том же заседании рабочей группы Александр Станевский, руководитель специального центра по обучению глухих студентов при Бауманском университете, не уступающему Галлаудетскому университету в США (первый в мире по обучению глухих и слабослышащих), рассказал о проблемах с набором таких ребят в Бауманский университет, потому что школьное образование для глухих стало значительно хуже. Поэтому пытаться рассказывать школам в регионах, что каждая из них обязана создать все условия для всех детей с инвалидностью, всех нозологий, абсолютно нереалистично.
Теперь по поводу ребят с расстройствами аутистического спектра (РАС) — проблема сложная и сегодня очень актуальная, поскольку число таких детей растет.
Когда в 2012 году мы обсуждали закон об образовании в действующей редакции между первым и вторым чтениями, к нам приходили специалисты по этому направлению, по просьбе которых мы включили в перечень коррекционных образовательных организаций школы для детей с РАС. Возможно также и создание в некоторых общеобразовательных школах ресурсных классов.
Я считаю, что мы правильно сделали, поскольку термин «расстройства аутистического спектра» включает огромный спектр самых разных состояний — от почти гениальности до тяжелых форм интеллектуальных нарушений, а иногда и тяжелых психических заболеваний.
Я знаю семью, в которой ребенок с диагнозом аутизм не может учиться ни в какой школе, даже в коррекционной. У семьи нет возможности жить с ребенком в таком состоянии. Эта семья недавно обратилась с просьбой помочь его определить в интернет для ребят с инвалидностью.
Я думаю, шум по поводу выступления директора института коррекционной педагогики, которую я знаю как высокопрофессионального человека, может быть организован по разным причинам, но это точно далеко не единственная точка зрения среди специалистов.
Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного?
Во-первых, инклюзия должна быть в пределах возможного. В Великобритании, опыт которой я в свое время изучал, инклюзию вводили постепенно в течение 20 лет при поддержке педагогического, родительского сообщества и властей, а не 3 года, как попытались у нас сделать после введения в силу нового закона об образовании с сентября 2013 года.
Во-вторых, должны работать обе системы — инклюзивного и коррекционного образования. Если по одним нозологиям существенной разницы нет, то есть такие заболевания, по которым коррекционные школы дают значительно более качественное образование, чем инклюзивные. Как правило, например, это школы для ребят с нарушениями зрения и слуха. Позволю в качестве примера привести личный опыт.
В свое время профессор офтальмолог дал совет моим родителям отдать меня в коррекционную школу. Мама отдавала меня туда со слезами. И мне, обласканному всеми ребенку, было совсем непросто адаптироваться к новым условиям, но я абсолютно убежден, что ни в какой обычной школе такого качественного образования, как в коррекционной.
К сожалению, накануне и в первые три года после принятия нового закона об образовании, у нас, по данным Министерства образования, было закрыто около 280 школ (детей разместили в обычные школы, как правило, не создавая специальных условий), начиная с 2018 года — 65. (В настоящее время в стране действует 1581 коррекционная школа — ред.)
Правда мы не можем точно сказать, все ли они закрыты или часть объединена с другими коррекционными школами. Мы не можем получить эти данные даже из регионов. Но объединять, например, ребят с нарушениями зрения с ребятами, имеющими нарушения слуха, неправильно. Так же неправильно объединять ни тех, ни других с ребятами с расстройствами аутистического спектра. В перечисленных случаях коммуникация между этими группами практически невозможна. Вот поэтому Министерство просвещения обещало разработать правила объединения групп инвалидов (или ограничений такого объединения) в процессе обучения.
Не только мой опыт показывает, что вполне возможна траектория из коррекционной школы в инклюзивную жизнь. Напоминаю, накануне развала Советского Союза среди незрячих было около 200 кандидатов и докторов наук. Сейчас эти показатели значительно ухудшилась.
Поэтому нам нужно поменьше шума в интернете и побольше профессиональных обсуждений.
Количество инвалидов в Российской Федерации даже в условиях изменения методики определения их диагностики растет, а это значит, что без крайней нужды закрывать коррекционные школы неправильно.
И последнее, о чем хотелось бы сказать. Мы неоднократно вносили в Государственную Думу две версии законопроектов. Первая — о том, чтобы разрешить ликвидацию или реорганизацию коррекционной школы только с согласия общего собрания родителей. Убедили родителей, что в инклюзии детям будет лучше? Закрывайте. Не убедили — не трогайте. Вторая версия, которая была в свое время предложена министром просвещения Сергеем Кравцовым, заключалась в том, что ликвидация или реорганизация коррекционных школ для детей с нарушениями здоровья, возможна с согласия Министерства просвещения. Оба законопроекта были отклонены правительством и не были приняты Государственной Думой. Хотя введение ограничений на ликвидацию и принудительную реорганизацию таких школ — очень важная и актуальная задача.
В настоящее время взят курс на то, чтобы коррекционные школы использовались в качестве ресурсных, где педагоги обычных школ могли бы учиться работать с детьми, имеющими нарушения здоровья, и я думаю, это правильная политика.
Источник: «Вести образования»
Фото: официальная ВК-страница Олега Смолина










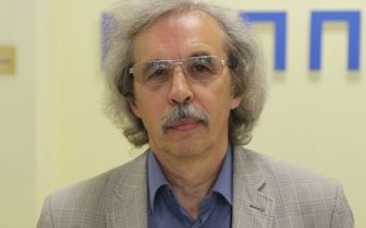




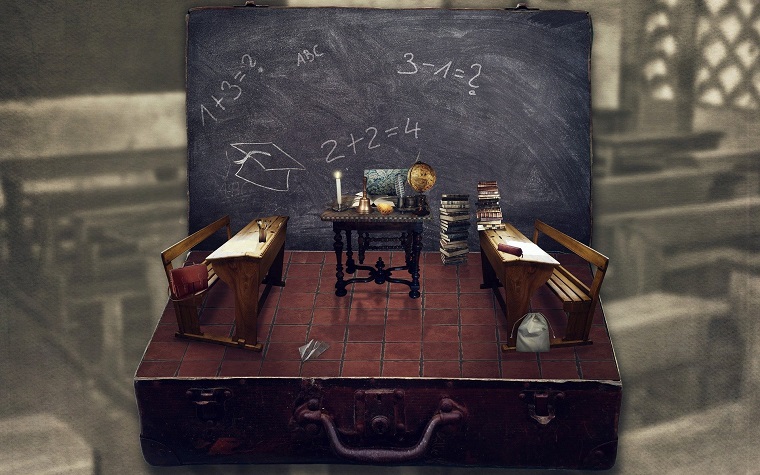










































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать