
Данная статья представляет собой попытку рефлексии — размышления по поводу консультативной практики — некоторых значимых, с моей точки зрения, ее аспектов. По мнению авторитетов в области консультирования, занимающихся к тому же подготовкой психологов-консультантов, одной из целей профессионального развития и, одновременно, критерием профессиональной зрелости и творчества является выработка индивидуального консультативного стиля как результата интеграции осмысленных профессиональных знаний и умений, практического опыта и личностных свойств консультанта. С другой стороны, совершенно очевидно, что всякого заинтересованного в качественном выполнении своего дела консультанта не могут не волновать вопросы о том, насколько глубоко и полно учитывает необходимые важные аспекты консультативной реальности его индивидуальный стиль, насколько адекватным, умелым и результативным является обращение с этими аспектами в процессе практики, насколько полно реализуемый индивидуальный стиль использует профессиональные и личностные ресурсы консультанта во благо клиента, и не является ли собственная практика личностной проекцией, используемой для удовлетворения тех или иных собственных нужд и т.д., и т.п. Очевидно, что эти и подобные им вопросы в большей или меньшей мере волнуют и являются актуальными для консультанта на протяжении всей профессиональной карьеры, учитывая динамичность и изменчивость осуществляемой практики и непрерывность работы по осмыслению ее. В этом свете данные рассуждения могут рассматриваться как обсуждение представлений, присущих автору на сегодняшний день, которое осуществляется в целях собственной рефлексии и приглашения коллег к обмену представлениями об этих же или иных реалиях консультирования, сущности, механизмах и путях психологического воздействия.
В рамках данных заметок мне хочется более подробно остановиться на двух аспектах консультативной практики, которые представляются имплицитно присущими, хотя и в разной степени рефлексируемыми, деятельности любого консультанта. Это, во-первых, индивидуальная модель (представление) психологического здоровья личности и, во-вторых, индивидуальная модель консультативного процесса. По моему глубокому убеждению, данные — всегда в большей или меньшей степени уникальные — личностные модели-представления являются важнейшими психологическими орудиями-инструментами, интуитивно или осознано используемыми консультантами для организации, контроля и регуляции своего психологического воздействия.
Индивидуальная модель психологического здоровья личности
Об индивидуальной модели психологического здоровья личности, которой осознанно или неосознанно придерживается консультант, представляется оправданным говорить в контексте рассуждений о целях и результате консультативной работы. С одной стороны, целью и результатом консультирования может рассматриваться преодоление конкретного затруднения, которое привело человека к психологу. Некоторые современные направления краткосрочного, нацеленного на решение проблемы консультирования именно в подобном преодолении видят цель и смысл психологической работы. Эта цель оговаривается в контракте и достигается в структурированном процессе применения тех или иных процедур и методик.
Нисколько не отрицая данного аспекта результативности консультирования, считаю важнейшими — если не самыми главными — целью и результатом психологической практики личностную коррекцию клиента. Всегда ли присутствует личностная коррекция и изменение клиента? Насколько она желательна и оправдана — психологически, этически и т.п.? Может ли подобное изменение рассматриваться как цель и результат консультирования? Видимо, ответы на эти вопросы не могут быть однозначными и одинаковыми. Мое мнение заключается в том, что в таком сложном и многоаспектном процессе, как психологическое консультирование, на личность клиента в той или иной степени оказывается развивающее воздействие. В некоторых современных направлениях консультирования именно эти изменения, а не само по себе разрешение конкретной проблемы провозглашаются главной целью и итогом работы. Такой позиции придерживаются центрированный на человеке подход К. Роджерса (1994, 2019), гештальт-терапия, индивидуальная психология А. Адлера (1995) и другие направления современного консультирования.
С моей точки зрения, главным инструментом начальной диагностики, мониторинга процесса и оценки результата — личностных изменений — в консультировании выступает именно индивидуальная модель психологического здоровья личности, носителем которой — и всегда, в той или иной мере, автором — является конкретный консультант.
Очевидно, что индивидуальная модель психологического здоровья личности — это результат усвоения разнообразных концепций и представлений психологической теории и практики, особенно того конкретного направления, которого придерживается и представителем которого считает себя специалист-психолог.
Но действительно индивидуальной эту модель делают идущие из глубоких личностных образований предпочтения и склонность к тем или иным психологическим представлениям и практикам, всегда уникальный опыт их усвоения, осмысления, интеграции в целостную структуру, когда профессиональная практика становится продолжением личности консультанта.
В отечественной литературе проблеме психологического здоровья, нормы и аномалий личности посвящена монография Б.С. Братуся (1988). В соответствии с представлениями разделяемого Б.С. Братусем направления отечественной психологической мысли и на основе его собственного опыта работы были сформулированы некоторые условия и критерии нормального и аномального личностного развития. Решусь утверждать, что формулируемый в упоминаемой монографии перечень условий и принципов стоит рассматривать, скорее, как индивидуальную, а не нормативную, общую модель психического здоровья личности, которой на момент написания монографии придерживался ее автор. Но зафиксированный в авторитетной монографии продукт исканий и размышлений Б.С. Братуся, наряду с другими теоретическими представлениями (А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. Перлз, А. Эллис и др.), а также опыт консультативной практики и ее осмысления привел меня к некоторым представлениям, образующим на данный момент мою рабочую модель психологического здоровья личности, основные осознаваемые положения которой я позволю себе здесь тезисно изложить.
Критериями и индикаторами психологического здоровья в их совокупности для меня являются:
1. Осознанность и осмысленность человеком самого себя, своей жизни в мире. Это очень общая характеристика, требующая ряда конкретизации и уточнений.
Так, осознанность и осмысленность себя в мире предполагает, с одной стороны, осознание человеком общих и широких смыслов и ценностей своей жизни. Именно это считают главным условием психологического здоровья психологи-экзистенциалисты, в частности, В. Франкл (1990) и Р. Мэй (2015).
С другой стороны, эта характеристика предполагает хорошее, глубокое осознавание и понимание себя в каждый конкретный момент времени в конкретной ситуации. О важности подробного осознавания себя, своих чувств, мотивов, потребностей и ситуации, ее нюансов и деталей, то есть открытости опыту «здесь и теперь», как условии четкого и ясного, адекватного восприятия и разрешения жизненных задач наиболее ярко писали К. Роджерс (1994) и гештальт-терапевты. Эту особенность как одну из наиболее характерных отметил А. Маслоу (2007) у самоактуализирующихся — с его точки зрения, действительно психологически здоровых — людей.
Сочетание обеих указанных характеристик, с моей точки зрения, определяет наличие хорошей личностной системы ориентации — определенности человека в конкретной ситуации и в жизни в целом. Несколько следующих критериев являются практическими следствиями указанной выше особенности.
2. Полнота «включенности», переживания и проживания настоящего. А. Маслоу (2007) называл это умением полностью отдаваться и проживать — прочувствовать каждый текущий момент. Практическими и феноменологическими следствиями этой полной включенности являются, во-первых, богатство и насыщенность впечатлениями жизни человека. В этой связи уместно вспомнить утверждение автора монографии «О счастье и совершенстве человека» В. Татаркевича (1981) о том, что счастье человека определяется не столько содержанием, сколько полнотой и богатством впечатлений жизни. Поэтому, во-вторых, по крайней мере, гипотетично можно утверждать, что полнота переживания и проживания настоящего ведет к радостности мироощущения человека.
С моей точки зрения, полнота переживания и проживания настоящего обеспечивается чуткостью и точностью в осознании чувств, мыслей и адекватными внешними действиями, и поступками в их единстве. Приоритет в этой триаде я склонен отдавать осознанию чувств как условию глубокого понимания себя и ситуации. При этом признаю огромную важность когнитивных процессов и образований в определении мироощущения и активности человека. Убедительным доказательством роли когнитивных представлений в жизни личности являются для меня положения индивидуальной психологии А. Адлера (1995) о жизненном стиле, индивидуальной (частной) логике и философии жизни и положения современных когнитивно-бихевиоральных направлений консультирования.
Хочется отметить также, что в снятом виде в осознании настоящего присутствует прошлое (в форме сформированных убеждений, когнитивных стереотипов, аффективных комплексов и т.д.) и будущее (в форме устремлений, целей, планов личности и т.п.).
Поэтому, в случае необходимости фокусом специальной работы могут стать чувства, мысли или действия, элементы прошлого опыта или будущего клиента. При этом одной из центральных задач подобной работы будет оптимизация проживания и переживания настоящего.
3. Способность к совершению наилучших выборов в конкретной ситуации и в жизни в целом. Это свойство, которое основывается на глубине и полноте осознания себя и ситуации, или, лучше, себя в ситуации. Это свойство связанно также со способностью слушать себя и доверять себе. В той или иной форме об этой личностной особенности писали К. Роджерс (1994, 2019), А. Маслоу (2007) и другие. Многие психотерапевты используют метафору «внутреннего сигнальщика», «внутреннего организмического механизма оценивания», «внутреннего мудреца» для обозначения и развития-актуализации человеком глубокого внимания и осознавания себя в ситуации, доверия себе при совершении личностно значимых выборов и принятии решений.
4. Чувство свободы, жизни «в соответствии с самим собой» как состояние осознавания и следования своим главным интересам и наилучшему выбору в ситуации. Действия в соответствии с наилучшим выбором может быть трудным и болезненным в силу неблагоприятных или препятствующих обстоятельств и условий. Но психологически оно радостно и свободно. Здесь уместно сослаться на описание процесса творческого переживания, осуществленное Ф.Е. Василюком (1994).
Наоборот, состояние скованности, вынужденности и несвободы возникает вследствие неосознавания или отказа, по тем или иным причинам, от наилучшего личностного выбора, отказа от жизни в соответствии с собой.
В этой связи мне хочется выразить свое глубокое убеждение в том, что условиями счастья и свободы человека являются не внешние обстоятельства, но внутренняя и внешняя личностная работа по определению и следованию лучшему для себя выбору в каждой конкретной ситуации и жизни в целом, жизнь в соответствии с собой.
5. Ощущение собственной дееспособности «Я могу» как состояние достаточности сил и свободного течения энергии (в понимании гештальт-терапии) в направлении реализации наилучшего личностного выбора в соответствии с собой. Ф. Перлз (1995) описал этот «внутренний» и «внешний взрыв» как освобождение связанной в психике и теле каждого человека энергии и сил при достижении истинного осознавания и понимания себя, своих интересов и путей их достижения.
6. Социальный интерес или социальное чувство (в терминологии А. Адлера), то есть заинтересованный учет интересов, мнений, потребностей и чувств других людей, постоянное внимание к тому, что рядом — живые люди. Эта черта занимает особое место среди выделяемых мною критериев психологического здоровья личности. Это связано с тем, что, во-первых, в норме наша жизнь от рождения и до смерти протекает в социальных условиях. Иначе говоря, ситуация человеческой жизни, развития, самореализации происходит в условиях, связанных с взаимодействием с окружающими людьми. Поэтому внимательный, глубокий, чуткий учет интересов других — это условие как индивидуального, так и совместного благополучия. Во-вторых, опыт практической работы убеждает, что нарушение баланса «я — другие» — одна из самых распространенных причин психологических трудностей посетителей психологической консультации. Преобладающим в условиях нашей популяции дисбалансом, по моим наблюдениям, является перекос в сторону приоритета ценностей, мнений, требований других людей, социума над интересами самой личности. Это ведет к неуверенности в самовыражении и достижении своих интересов, тревоге, нерешительности, неустойчивому и негативному самоотношению, неудачным защитным попыткам компенсировать эти неблагоприятные состояния и свойства. Иногда обнаруживается сдвиг баланса «я — другие» в сторону чрезмерного эгоцентризма. Оптимумом, с моей точки зрения, является признание за собой права на существование, выражение и достижение своих мотивов и потребностей, но не за счет, а учитывая, принимая и способствуя интересам других людей. Идеалистическая модель? Верю, что нет. Одно из подтверждений тому вижу в тенденциях современной конфликтологии, где парадигма «я против тебя» меняется на «мы против проблемы» и «выиграть может каждый» (Фишер, Юри, 1992; Корнелиус, Фейр, 1992).
7. Состояние устойчивости, стабильности, определенности в жизни и оптимистический, жизнерадостный настой как интегральное следствие всех перечисленных выше качеств и свойств психологически здоровой личности. Это состояние не стоит путать с состоянием ригидности, зашоренности стереотипами и шаблонами. Наоборот, это состояние гибкого, но устойчивого баланса в динамичном, со значительной степенью неопределенности, жизненном мире.
Как уже упоминалось, подобное интегральное представление о психологическим здоровье личности позволяет обнаруживать «проблемные зоны» в личностных характеристиках клиента при диагностике его психологических проблем, помогает выбрать направление и формы психологического воздействия, отслеживать динамику изменений в процессе консультирования и оценивать достигнутый результат.
Индивидуальная модель процесса психологического консультирования
Индивидуальная модель процесса психологического консультирования — это комплексное представление о процессе консультирования, на которое осознанно или интуитивно ориентируется и использует для организации своей деятельности консультант. Как и в случае с индивидуальной моделью психологического здоровья, подчеркну, что такая модель — это не отчужденно-объективированное знание консультанта, приобретенное в процессе обучения, но личностное, насыщенное индивидуальным субъективным опытом, чувствами и смыслами представление.
В психологической литературе есть традиция выделения различных моделей консультирования. Условно эти модели можно разделить на:
- объектно-манипулятивные, в которых клиент и его затруднения понимаются как объект внешней диагностики и воздействия посредством различных методик и техник с целью изменения в направлении, определяемом экспертом-консультантом;
- феноменологические, в которых акцент делается на понимании, прояснении и изменении субъективного феноменологического мира клиента «изнутри». При этом клиент выступает в качестве главного аспекта, определяющего направления изменений, а консультант — в качестве фасилитатора происходящих изменений.
Со значительной долей условности к первого рода моделям можно отнести модели консультирования в бихевиоральной, рационально-эмотивной психотерапии и нейролингвистическом программировании, а к моделям второго рода — центрированный на человеке подход К. Роджерса (1994, 2019), экзистенциальную психотерапию, гештальт-терапию, индивидуальную психологию А. Адлера (1995) и аналитическую психологию К.Г. Юнга (1996).
Позволю себе изложить на этих страницах некоторые представления собственной модели консультативного процесса.
Консультативный процесс представляется аналогичным процессу индивидуального переживания, совладания с ситуацией невозможности, кризиса, который, однако, осуществляется совместно, в психологическом единстве клиента и консультанта. Эта аналогия проявляется в сходстве содержания, динамики и результатов. Отличия же определяются тем, что в данный процесс активно вовлекаются личностные и профессиональные качества консультанта как инструменты и ресурсы движения. Можно сказать, что консультирование — это процесс совместного осмысления жизненной ситуации клиента и поиска наилучшего решения проблемы. Иным, методическим языком можно консультирование сравнить с совместным путешествием консультанта и клиента в неизвестные территории — проблемной ситуации, жизни и психики клиента с целью открыть, понять оптимально освоить эти территории.
Подчеркну наиболее важные для меня моменты этой модели. Центральным является представление о психологической совместности, единстве клиента и консультанта. В определенном смысле это некоторое целостное над- или сверхличностное субъектное психологическое образование, объединяющее и интегрирующее личности клиента и консультанта, осмысляющее, проживающее и перерабатывающее ситуацию кризиса клиента. Очень важно, с другой стороны, что в этом единстве консультант не теряет своей личностной идентичности, своего взгляда и чувств по поводу происходящего, не растворяется в проблеме и переживаниях клиента, так как это чревато утратой им своего терапевтического потенциала.
Это личностное единство, с моей точки зрения, позволяет решить несколько важных консультативных задач. В частности:
1. Достичь глубокого понимания проблемной ситуации глазами клиента, «изнутри», которое включает, наряду с детальным рациональным восприятием обстоятельств, прочувствование личностных смыслов, мотивов, переживаний и эмоций клиента по поводу этих обстоятельств.
Думаю, что именно это имел в виду К. Роджерс (1994, 2019), утверждая, что необходимо как бы стать клиентом, быть «на его стороне», вместе с ним проживать и осмысливать обстоятельства проблемы для нахождения клиентом наилучшего решения. На необходимость проникновения во внутренний мир клиента для понимания его ситуации и проблемы и на этой основе сделать возможным оказание оптимальной помощи указывают и другие известные консультанты.
2. Оказать при необходимости эмоциональную поддержку клиенту, ободрить, вдохновить на основе прочувствования консультантом его состояний потерянности и отчаяния человека по поводу своей ситуации (особенно на начальных этапах консультирования) и привнесения в «совместное поле» чувствования и переживания более целостного, сбалансированного, оптимистичного и энергичного состояния и взгляда на проблему.
Помочь клиенту достичь глубокого осознания и осмысления своей проблемной ситуации. Средствами подобной помощи выступают аккуратная эмпатия, активное слушание и адекватная обратная связь клиенту со стороны консультанта, который с одной стороны, максимально полно проживает ситуацию «здесь и теперь» и поэтому стремится глубоко понять клиента, его состояния и чувства. С другой стороны, консультант осознает эмоциональные реакции и импульсы по поводу происходящего, рождающиеся в его собственном внутреннем мире — мире психологически здорового человека. Обсуждение-диалог с клиентом впечатлений и наблюдений консультанта делает возможным для клиента иные варианты восприятия и отношения к обстоятельствам своей проблемной ситуации. Эта интенсивная коммуникация по поводу проживаемого опыта глубоко понимающих и чувствующих друг друга в едином поле переживания людей лежит в основе приобщения клиента к наиболее полному осознанию и проживанию настоящего. Консультант побуждает клиента к тому, чтобы наиболее тонко и полно прочувствовать и осознать важные обстоятельства и аспекты ситуации, свои чувства, потребности, переживания; консультант замечает и проблематизирует неискренность или неадекватность (неполноту, категоричность, искаженность) в отношении клиента к тем или иным реалиям и т.п. Первоначально совместный, этот процесс может все более успешно реализовываться клиентом самостоятельно.
3. Этот процесс позволяет клиенту на основе изменившегося видения, осознания и переосмысления ситуации и себя в ней совершить наилучшие выборы и сформулировать наилучшие решения. На этом заключительном этапе личностная сила, душевное и психологическое здоровье консультанта, привнесенные в совместное смысловое психологическое поле, нередко оказываются важными средствами, поддерживающим клиента во время первых — самых трудных! — шагов по реализации, воплощению в реальную жизнь новых, непривычных, но наилучших для него решений.
Некоторые дополнительные замечания.
1. Процессуально консультирование подобно индивидуальному проживанию-переработке кризиса: мучительное переживания тупика, озарения-открытия, периоды отчаяния и разочарования и обнаружения не замеченных ранее возможностей и перспектив, переосмысления прежде совершенно однозначно понимаемых обстоятельств, развитие важных личностных качеств, строительство и воплощение в жизнь новых смыслов и ценностей. Это нередко длительный и нелегкий процесс, который, однако, в случае полного и глубокого, неторопливого его проживания дает бесценный опыт, рождающий новые жизненные смыслы и решения.
2. Повторюсь, что в этом процессе разрешения конкретной проблемной ситуации происходит и изменение личности клиента, приобретение им умений и способностей, характеризующих психологически здорового человека. Эти умения необходимы для разрешения конкретного затруднения. И подчас бывает необходима специальная работа по развитию какого-либо конкретного умения для того, чтобы клиент сумел достичь наилучшего разрешения конкретного затруднения. Однако эти личностные умения необходимы для наилучшего строительства своей жизни и в других обстоятельствах и ситуациях. В подобном личностном развитии видится наиболее важный результат консультирования. Ибо, согласно известной притче, можно поймать рыбу и накормить ею голодного один раз, а можно научить голодного самого ловить рыбу.
3. Психологическое здоровье личности и профессиональная компетентность консультанта выступают в этом процессе тем камертоном психологического здоровья, который служит основой диагностики отклонений и «подстраивания» — развития необходимых личностных качеств клиента в процессе совместного «резонирования-звучания» в ситуации. Это обстоятельство накладывает на консультанта требование самому быть психологически здоровой личностью, соответствующей собственной модели психологического здоровья. Для клиента консультант неизбежно выступает моделью психологически здоровой личности, влияния живого примера которой намного сильнее абстрактно высказываемых мудрых мыслей: «суха теория, мой друг, лишь древо жизни пышно зеленеет». Никакие профессиональные знания и умения не смогут заменить и компенсировать отсутствие психологического здоровья у самого консультанта.
4. Использование техник и методик понимается и принимается мною как средство углубленного и интенсивного продолжения, происходящего «естественного» процесса по осознанию, осмыслению и изменению проблемной ситуации. Они могут быть адекватны и полезны при уже назревшей готовности клиента к изменению в том направлении, в котором работает данная техника. Без такой готовности техника может явиться средством манипуляции, грубого воздействия на психику клиента, осуществляемого консультантом ради удовлетворения своих осознаваемых или неосознанных нужд. Действительное искусство консультанта как фасилитатора состоит в умении подобрать и своевременно применить методики и техники, развивающие уже наметившееся движение самого клиента.
В этом заключаются некоторые мысли, по поводу консультирования, которыми мне хотелось поделиться. Возможно, не везде они оказались изложены с необходимой ясностью. Оправданием этого может быть, то, что данная статья лишь шаг в продолжающемся процессе поиска и рассуждений.
Литература
- Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Прогресс, 1995.
- Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль. 1988.
- Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1994.
- Колпачников В.В. Индивидуальные модели консультативного процесса и психологического здоровья в консультировании. // Журнал практического психолога. 1997, № 5. С. 18-26.
- Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. М.: Стрингер, 1992.
- Маслоу А. Мотивация и личность. СПб: Питер, 2007
- Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М.: Апрель-Пресс, 2015
- Роджерс К.Р. Становление человека: Взгляд на психотерапию М.: Прогресс, 1994.
- Роджерс К.Р. Путь бытия. М., 2019.
- Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра. СПб: Петербург-XXI век, 1995.
- Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. М.: Прогресс, 1981.
- Фишер Р., Юри У. Путь к согласию Или переговоры без поражений. М.: Наука, 1992.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
- Юнг К.-Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс, 1996.
Источник: Колпачников В.В. Индивидуальные модели консультативного процесса и психологического здоровья в консультировании // Ежегодник по клиентоцентрированной психотерапии и человекоцентрированному подходу – 2020. / Науч. ред. А.Б. Орлов, В.В. Колпачников, В.Ю. Меновщиков. Т. 2. М.: Институт консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Институт), 2020. С. 99–107.

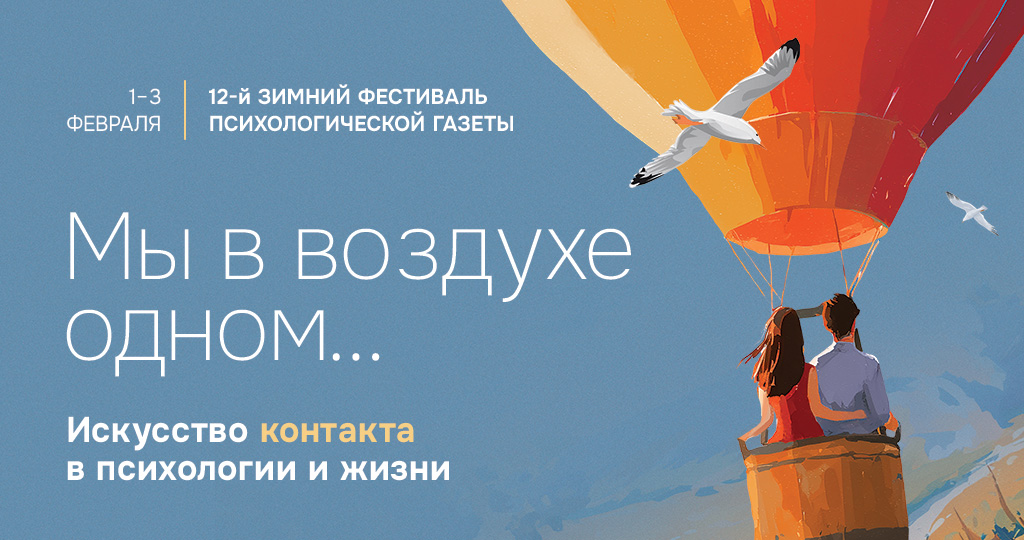



.jpg)





















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать